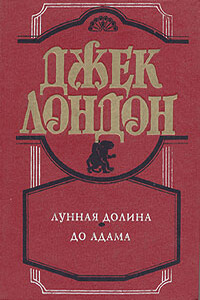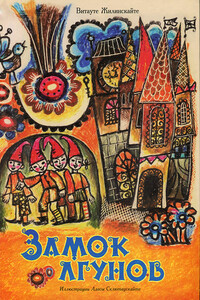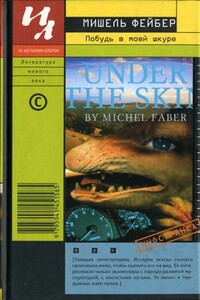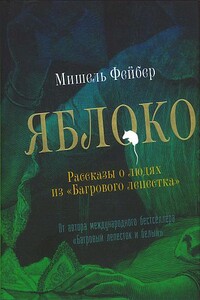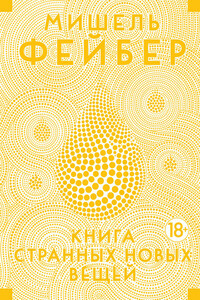Я просыпаюсь, с трудом промаргиваюсь, глядя в небо, и первое, что вспоминаю, — жена не сможет меня простить. Теперь уже никогда, навеки.
А затем вспоминаю, что жены-то у меня больше и нет.
И лежу я не дома, а на дне лестничного колодца — тридцать бетонных ступенек вниз от уличной мостовой — в городе, стоящем далеко от моего дома. Мой дом — это прошлое, а я должен жить настоящим.
Я лежу на мягкой груде мешков для мусора и, похоже, весь покрыт какой-то дрянью. Она везде — на моем потрепанном дождевике, на обмахрившихся рукавах джемпера и на брюках тоже. Я принюхиваюсь, пытаясь понять, что это, однако так ничего и не понимаю.
Странно, что я не заметил ее вчера, когда осматривался здесь, устраиваясь на ночь. А, ладно, было темно, я отчаянно нуждался в ночлеге, тем более, что с двух мест меня уже успели согнать. Но я помню, как заползал на этот мусор, осторожно ощупывая мешки и думая, что более мягкой и сухой постели мне не найти. Может быть, грязь просочилась сквозь них попозже, под нажимом моего тела.
Я оглядываюсь, ища, чем вытереть одежду. На самом-то деле, нечем. Будь я котом, я слизал бы с себя это дерьмо и все равно остался гордым собой, даже привередливым существом. Но я не кот. Я человек.
И потому я вытягиваю из сора мятую рекламную брошюрку, поливаю ее тем, что сохранилось на дне пивной бутылки и принимаюсь с силой оттирать одежду влажным комком бумаги.
Может, дело в усилиях, может, в восходящем солнце, но очень скоро мне начинает казаться, что, пожалуй, я обойдусь и без этих грязных покровов — по крайней мере, до ночи. А ночь еще слишком далеко, чтобы о ней думать.
Я встаю, оставляя джемпер и плащ валяться поверх отбросов, так, словно они тут и прежде лежали. Теперь всей одежды на мне — белая футболка, — морщинистая шея моя и тощие руки оголены, однако при сегодняшней температуре оно в самый раз. Спереди на футболке что-то написано, но я забыл — что. По правде, я не могу припомнить и откуда эта футболка взялась: подарил кто-нибудь, или я украл ее, или даже купил когда-то, давным-давно.
Я поднимаюсь по жестким ступеням к улице, иду по тротуару, никуда особенно не направляясь, просто стараясь вписаться в общую картину. В большую. В журналах иногда печатают фотографии заполненных людьми улиц, вид сверху. Люди на них выглядят так, точно им самое тут и место, даже тем, кто оказался не в фокусе.
Вписаться будет нетрудно, решаю я, потому что, хоть машин на улице много, прохожих почти нет. Магазины открылись еще не все, не исключено, однако, что сегодня воскресенье и открываться им просто не положено. Стало быть, первая задача такая: выяснить, какой нынче день. Хорошо, когда есть, с чего начать.
Впрочем, довольно скоро я перестаю думать только об этом. Что-то сегодня в мире не так, и это «что-то» действует мне на нервы.
Как раз с прохожими-то оно и связано. Проходя мимо, люди бросают на меня взгляды, исполненные крайней подозрительности, — как будто их подмывает сообщить обо мне в полицию, даром, что я стянул с себя грязную одежду, чтобы никого моим видом не оскорблять. Может, все дело в коротких рукавах. На каждом прохожем куча одежек, как будто сегодня куда холодней, чем я думал. Наверное, я стал закаленным человеком.
Я улыбаюсь, надеясь успокоить их всех, всех на свете.
Невдалеке от станции железной дороги я вытаскиваю из мусорной урны половинку бутерброда. Насчет вкуса его сказать ничего не могу, а по прочим ощущениям он, вроде бы, ничего — не осклизлый, не заплесневелый. Около станции мусор из урн вытряхивают чаще, чем в некоторых других местах.
Ко мне направляется полицейский, и я ударяюсь в бегство. И в спешке едва не налетаю на женщину с детской коляской, женщина склоняется над младенцем, точно боясь, что я повалюсь на него и задавлю до смерти. Мне удается устоять на ногах, я извиняюсь; она говорит: «Все в порядке», но тут же оглядывает меня с головы до ног и вид у нее становится такой, словно она в этом совсем не уверена.
К десяти меня уже трижды останавливают на улице, и каждый раз говорят, что хотят мне помочь.
Один раз — пожилая дама в черном шерстяном пальто и красном шарфе, другой — азиат, выскочивший из газетного киоска, а третий так и вовсе мальчишка. Они не предлагают мне ни еды, ни крова. Нет, им хочется сдать меня в полицию. И каждый из них откуда-то знает меня, хоть я их и не видал никогда. Называют по имени, говорят, что жена, наверное, очень обо мне беспокоится.
Я мог бы попробовать объяснить им, что нет у меня никакой жены, однако убегать — это проще. Пожилая дама обута в туфли на высоких каблуках, азиату не на кого оставить киоск. Мальчишка, правда, гонится за мной несколько секунд, но отстает, когда я перескакиваю на другую сторону улицы.
Не могу понять, на что я им сдался. До нынешнего дня все просто глядели сквозь меня, как будто я и не существую. Столько времени я пробыл человеком-невидимкой, а тут вдруг обратился во всеобщего давно утраченного дядюшку.
И я решаю, что дело в футболке.
Остановившись перед магазинной витриной, я щурюсь, вглядываясь в свое отражение, пытаясь прочесть, что там на ней написано. Читать задом наперед я не мастак, да и текст оказывается на удивление длинным, предложений в пятнадцать. И все же, мне удается разобрать достаточно, чтобы сказать: на футболке отчетливо обозначено мое имя, название города, в котором я жил, и даже номер телефона, по которому обо мне следует сообщить. Я поднимаю взгляд на отражение моего лица, — оказывается, челюсть у меня отвисла. Поверить не могу, что, когда я уходил из дома, мне хватило глупости напялить футболку, на которой большими черными буквами напечатаны все сведения обо мне.