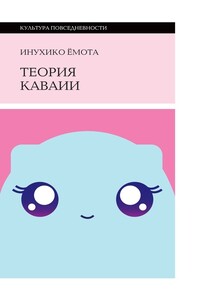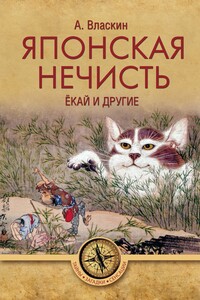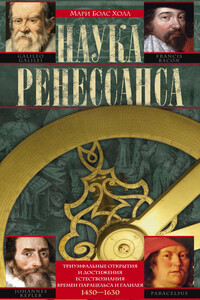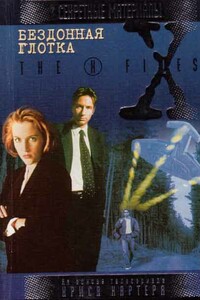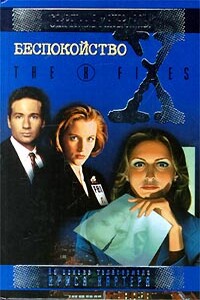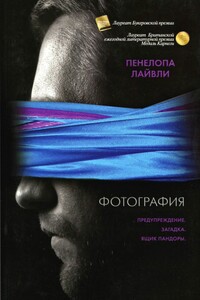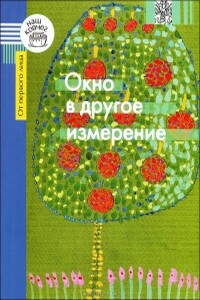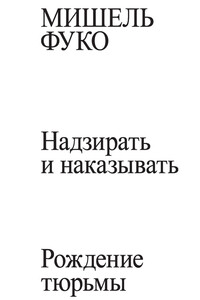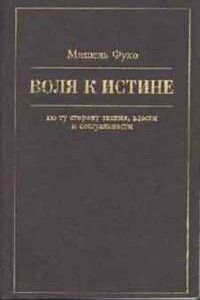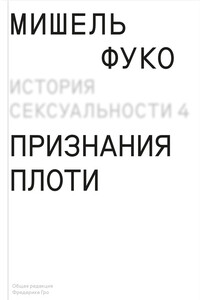Может быть, наступит такой день, когда перестанут понимать, что такое безумие. Эта фигура замкнется на себе, не позволяя более разгадывать следы, которые она оставит. А для несведущего взгляда будут ли сами эти следы чем то иным, нежели простыми черными отметинами? Вернее всего, они будут вписаны в конфигурации, которые сегодня нам никак не нарисовать, но которые в будущем станут необходимыми координатами прочтения нашего бытия и нашей культуры, нас самих. Тогда Арто будет принадлежать к почве нашего языка, а не к его разрыву; неврозы будут конститутивными формами нашего общества (а не отклонениями от них). И все то, что сегодня мы переживаем как нечто предельное, или странное, или невыносимое, достигнет безмятежной позитивности. И все Запредельное, Внеположенное, все, что обозначает ныне наши пределы, станет, чего доброго, обозначать нас самих.
Останется только загадка этой Внеположенности. Люди будут спрашивать себя, что же за странное разграничение играло нашей историей с глубокого Средневековья и вплоть до ХХ века, а может быть и дольше? Почему западная культура отбросила в сторону своих рубежей то, в чем она вполне могла узнать самое себя, то, в чем она себя действительно узнавала, правда, выбирая при этом окольные пути? Почему, ясно поняв в ХIX веке и даже раньше, что безумие образует обнаженную истину человека, она, тем не менее, оттеснила его в это нейтральное и неясное пространство, где его как будто бы и не было? И почему при этом надо было воспринять в себя слова Нерваля или Арто, почему надо было узнавать себя в словах, а не в поэтах?
Вот когда поблекнет живой образ пылающего разума. Привычная игра всматриваться в самих себя с другого края, со стороны безумия, вслушиваться в голоса, которые, приходя к нам из дальнего далека, говорят нам почти что нашу собственную истину, эта игра, с ее правилами, тактическими ходами, изобретательными уловками, допустимыми нарушениями ее законов, станет навсегда не чем иным, как сложным ритуалом, значения которого обратятся в пепел. Что-то вроде величественных церемоний потлатча в архаических обществах. Или причудливого двуличия практик колдовства и процессов над ними в XIV веке. В руках историков культуры останутся лишь сведения об узаконенных мерах принудительного заключения умалишенных и медицинском обслуживании, но, с другой стороны, о внезапном, ошеломительном включении в наш язык слова тех, кого исключали таким образом из общества.
Какова будет техническая опора такого изменения? Обретенная медициной возможность лечения психического заболевания как любую другую органическую болезнь? Точный фармакологический контроль всех психических симптомов? Или же достаточно строгое определение отклонений поведения, с тем, чтобы общество вполне могло предусмотреть для каждого из них подходящий способ нейтрализации? Или же возможны другие изменения, ни одно из которых не упразднит реально психическое заболевание, но всеобщий смысл которых будет направлен на то, чтобы стереть с лица нашей культуры образ безумия?
Мне прекрасно известно, что последняя гипотеза оспаривает общепринятые положения: о том, что развитие медицины сможет наконец уничтожить психическое заболевание, как это случилось с проказой и туберкулезом; однако все равно останется отношение человека к его наваждениям, к тому, что невозможно для его, к его нетелесному страданию, к ночному каркасу его существа; пусть даже патологическое будет выведено из обращения, все равно темная принадлежность человека к безумию останется в виде вечной памяти об этом зле, которое сгладилось как болезнь, но упорно сохраняется как страдание. По правде говоря, такая идея предполагает неизменным то, что является самым зыбким, много более зыбким, чем константности патологического: отношение культуры к тому, что ее исключается, точнее, отношение нашей культуры к той ее истине, далекой и противоположной, которую она открывает и скрывает в безумии.
Но что уж непременно умрет в скором будущем, что уже умирает в нас (и знаком смерти чего является наш язык), так это homo dialecticus, существо начала, возвращения и времени, животное, которое вдруг теряет свою истину, потом обретает ее, чужой себе человек, который снова к себе привыкает. Человек, который был суверенным субъектом и рабским объектом всех когда бы то ни было произнесенных речей о человеке и, в особенности, об умалишенном человеке, отчужденном от него. К счастью, он умирает, под звуки этой болтовни.
Так что перестанут понимать, каким образом человек смог отдалить от себя эту свою фигуру, как смог он вытеснить по ту сторону предела как раз то, что держалось на нем, и в чем он сам содержался. Ни одна мысль не сможет более помыслить это движение, в котором еще совсем недавно западный человек обретал свою протяженность. Навсегда исчезнет именно отношение к безумию (а не некое знание психического заболевания или некая позиция по отношению к заключенным домов для умалишенных). Будет понятно лишь следующее: мы, европейцы последних пяти столетий, на поверхности земли мы были теми людьми, которых, среди прочего, характеризовала такая фундаментальная черта, весьма странная среди прочих черт. Мы поддерживали с психическим заболеванием отношение глубокое, патетическое, неясное, может быть, для нас самих, но непроницаемое для других, отношение, в котором мы испытывали самую великую для себя опасность и самую, может быть, близкую истину. Будут говорить не то, что мы были на дистанции от безумия, но то, что мы были на самой дистанции безумия. Так же и греки: они не были далеки от не потому, что осуждали ее: скорее, они были в удалении той чрезмерности, в самом сердце этой дали, где они ее удерживали.