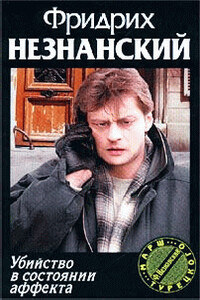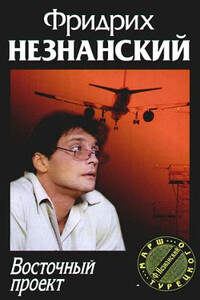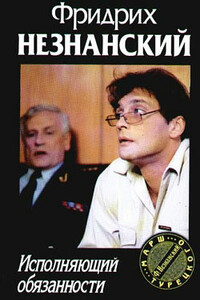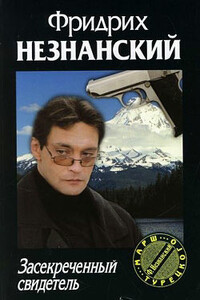Шермат-ата накинул на плечи чекмень, взял посох и, опершись о него обеими руками, застыл, точно изваяние, на взгорке возле юрты.
Бодом-хола хлопотала возле очага. Она знала — если муж принял эту позу, значит, у него скверное настроение и лучше в такой момент не тревожить его расспросами — отойдет, сам обо всем расскажет. Но одно дело понимать, а другое — чувствовать. Беспокойство и тревога не давали ей покоя. «Неужели на курултае что-то случилось, — думала хола[1], — или дома что-нибудь не так? В «Чинар» утром Шермат-ата уехал веселым, гордым от сознания, что опередил всех соперников. Что же произошло?» Но чем больше задавала себе хола вопросов, тем путаннее становились ее мысли. Наконец, вздохнув, она прошептала: «О аллах, упаси моего мужа от напастей!».
Хола вспомнила утро. Как всегда, за завтраком ата[2] включил транзисторный приемник. Районная передача была посвящена итогам только что завершившейся и области окотной кампании. Ата прибавил громкости — что же это о нем ни слова не говорят! И вдруг — ему даже показалось, что голос диктора стал торжественным, — услышал: «Рекордный приплод в расчете на сто овцематок получен в совхозе «Чинар». Отара известного чабана Шермата-ата Бакиева принесла по двести десять ягнят. Такого успеха овцеводство долины Сурхана еще не знало!»
Шермат-ата аж языком от удовольствия прищелкнул.
— Слышала, кампырджан[3]?.. — спросил он жену.
Бодом-хола улыбнулась, промолчала.
— И не то еще будет. Сегодня это известие облетело область, завтра прозвучит на всю республику, а там, глядишь, и до Москвы дойдет!
— И что тогда, дадаси[4]? — жена все так же добродушно улыбалась.
— Как это что? Звезду героя могут дать. И буду я первым героем в совхозе... Да-а, — продолжал он размышлять вслух, — если несколько лет подряд повторю свой рекорд, то вторую звезду не пожалеют. Тогда уж мой бюст наверняка поставят в совхозном саду.
— Что поставят? — переспросила жена.
— Бюст, говорю. Ну, голову мою и часть плеч.
— Вай-уляй, — воскликнула хола с испугом, — это еще зачем?!
— Не волнуйся, — ответил ата, рассмеявшись, — не эту голову, другую. Из бронзы отольют. Есть такой закон: на родине дважды Героя ставят его бюст. В знак особого уважения, поняла?
— Поняла, — не очень уверенно произнесла жена. — Добрые намерения — половина успеха, Шерзад, — сказала хола, назвав мужа ласково именем старшего сына, как принято в кишлаке, — пусть ваша мечта сбудется на радость детям и внукам!
— Сбудется, — уверенно ответил чабан, — ты еще, кампырджан, и Рахима своего в знатных людях увидишь, гордиться им будешь.
Бодом-хола пожалела, что времени нет, иначе она, конечно, подробнее расспросила бы мужа о бюсте. Например, что важнее — бронзовая голова или орден? Ну, ничего, вот вернется отец из «Чинара», тогда можно будет и продолжить разговор...
...Шермат-ата стоял неподвижно. Солнце уже наполовину зашло за гребень Кугитанга, и потому тень старика была длинной. Адыры[5], подступившие к подножию Кугитанга, таяли в дымке сумерек, а вдали величаво дремал Сангардак, купая свою снежную голову в лучах заката. У самого горизонта, где-то над Аму, пылало облако, похожее на нарисованную детской рукой сказочную птицу Семург. Внизу, по широкому ложу джайляу[6], что оставили здесь некогда промчавшиеся сели, рассыпались «овцы». Белые, серые, черные и рыжие валуны, вокруг которых разбросаны поменьше камни-голыши — «ягнята». Было тихо и спокойно, казалось, что утомленная зноем природа погрузилась в глубокий сон.
Кавардак, который так любил ата, был готов, и Бодом-хола решила позвать мужа ужинать. Его молчание становилось просто невыносимым.
— Дастархан накрывать, дадаси? — громко спросила она.
— А? — Ата вздрогнул, огляделся по сторонам, словно бы всё, что окружало его, увидел впервые. — Ты что-то сказала?
— Что с вами, ата? Может быть, дома что-то случилось?
— Саит, — чуть слышно ответил ата, — Саитджан умер! — Он выронил из рук палку, присел на кошму и, обхватив голову руками, зарыдал.
— Когда? — Хола подбежала к мужу. — Три дня назад я разговаривала с ним в кишлаке. Сердце, да? О небо! Что ты наделало?..
— Вчера, — сквозь рыдания ответил ата. — Нашли его в ущелье Шорсу, говорят, сорвался в пропасть. Сегодня похоронили. О аллах, за что осиротил меня, последнего друга отобрал?!
Он замолчал. Долго смотрел невидящим взглядом на ближайший адыр, затем, вздохнув, тихо сказал:
— Прости меня, Саитджан, пусть земля тебе будет пухом!
— Аминь, — сложив вместе ладони, присела на корточки хола и повторила за мужем: — Пусть вам, Саит-ака[7], земля будет пухом.
— Я джинны[8], — сказал Шермат-ата сурово, — самый настоящий джинны! Век себе не прощу, что напрасно обидел друга, не прощу!
— Когда это случилось, ата? Почему я ничего не знала?
— Э, женщина, не лезь в душу, — прикрикнул ата, — занимайся-ка своим казаном!
И Шермат-ата опять остался наедине со своим горем, которое, кажется, состарило его на десяток лет. Он будто стал ниже ростом, ссутулился. А солнце уже село, исчезла огненная птица Семург, что парила над горизонтом. Лишь вершина Сангардака, залитая киноварью позднего заката, напоминала гигантский язык чабанского костра. Ата немного успокоился. Хола видела, как муж неуклюже встряхнулся, словно бы сбрасывал с плеч тяжкую ношу. Она негромко поинтересовалась — много ли народу было на похоронах.