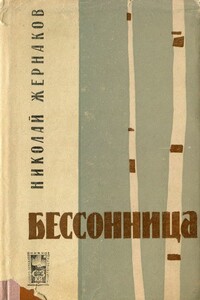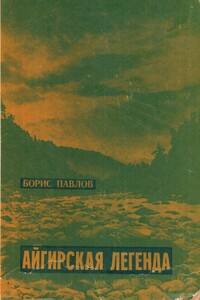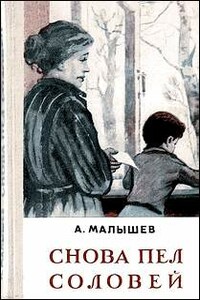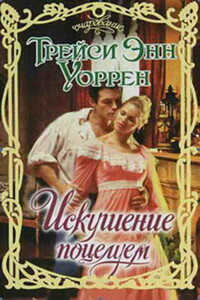Горностай еще ночью лишился норы — затопило. Принюхивался к воде, суетился, неохотно отступал вдоль берега, пока не очутился на маленьком островке: за какую-то сотню прыжков успел обскакать его вокруг.
Зверек тревожно потявкал, вытянулся столбиком, стараясь разглядеть, что там чернеет посередине. В блестящих бусинках глаз отразилось солнце: островок был пуст, лишь обрубок дерева лежал около черного пахнущего гарью пятна. Горностай никогда не подошел бы к нему, но вода прибывала и прибывала, и ему ничего больше не оставалось, как вскочить на обрубок; под водой скрылось и пятно от костра. Зверек метался от комля к вершине и обратно, становился на задние лапы, высматривал и вдруг бросился в воду.
Едва он добрался до глубокого места, течение подхватило его, замелькали на берегу кустики. Горностаю, казалось, только это и надо было. Не отрываясь от берега, он будто нарочно использовал поток. И вот, наконец, то, к чему он устремлялся: высокий пень когда-то сломанной бурей сосны чернел на мелководье.
Зверек с ходу ткнулся мордочкой в пень, вскочил на корявый сук, отряхнулся весь от ушек до хвоста и уверенно юркнул в дупло. Как видно, оно ему было давно знакомо.
Дора глядела и глядела в лицо матери. Почудилось: дрогнула бровь, бесцветные губы шевельнулись чуть-чуть.
Нет, никогда не дрогнет больше у матери бровь, не раскроются ее губы.
Дора осмотрелась, будто впервые увидела эту горницу: голые стены, обои выцвели, обветшали. Как-то раньше, при жизни матери, не замечалось этого.
В углу красный глаз лампадки перед маленькой иконкой. Краски с нее пооблезли, Богородица с укором глядит на Дору.
Дора тяжело вздохнула.
«Ну, здравствуй, Агафья Егоровна! Простишь ли меня? Виновата — раньше-то не нашла времени для встречи… Все некогда, все недосуг. Вот ты и не дождалась дочку свою. Почему? Хотя и семьдесят тебе, да ведь и это не годы! Не верится, мама… Не верится».
Дора не помнит, когда плакала в последний раз. Она всегда не по-женски была скупа на слезу. А сейчас лицо матери то и дело тускнело, как в тумане.
На улице — весна. Яркий свет рвется в окно, и веселые зайчики прыгают по подоконнику и по стенам.
Изба Кокориных у околицы, на границе деревни, дальше — выгон. По его низинам полая вода пришла под самое окно. Плещутся легкие чешуйчатые под солнцем волны, с них-то один за другим зайчики и скачут в окошко.
Вода нынче не так высока, как была в том памятном году. Теперь не дают скапливаться паводку в верховьях, толом рвут заторы у Орлиной горы.
Уже много лет не полоскало подворий кузоменцев, а вот к старому дому Кокориных вода подходит каждую весну. Словно напоминает о небывалом половодье, что на всю жизнь осталось в глазах у Доры.
Много лет минуло, а будто вчера была та весна, когда не только Двина разбушевалась необычно, но и вся-то жизнь деревенская встала на дыбы.
Дора тогда сразу повзрослела, бросила школу и пошла с матерью в коровницы. Коровы еще стояли в кулацких хлевах (колхоз только народился). Мать с дочерью и доили, и корма возили, и навоз убирали, — все сами-двое. А выгон зазеленеет — так и пасут поочередно.
Да, рада бы забыть ту весну Дора, только сил таких нет у нее. Помнится толпа на берегу Шеньги. Народ все больше с верхнего конца Кузоменья — с Солдатских Увалов. Там надежно, высоко, там не тронет. А на нижнем конце кое у кого и на печи вода: избы погрузились по самые крыши. Если меж них лед понесет — того гляди своротит. Мужики ведут неторопливые разговоры: «Вода-то валом валит!» — «У Кокориных овин унесло…» — «Низина у их — не дай бог…»
Доркин отец, Митрофан Кокорин, прибежал из деревни, еще на ходу сердито закричал: «Чего рты-то пооткрывали?!» — «А что нам — лед от берегов толкать?» — смеются мужики. — «Смех вам… Гляньте, что Кривое-то делает!».
Шум поутих. В Кривое озеро и в самую большую воду Шеньга никогда не заглядывала. А тут речной лед уже через озеро пошел, вот-вот от деревни отрежет.
Мужики ахнули. Дорка тоже ойкнула, хотела было мимо отца — да и к дому. «Постой! — остановил тот. — Куда тя понесло, безголовую? Ух, и непоседа! Где бы матери помочь…»
Дорка знает: папаня не сердитый, поворчит разве. Он усадил ее в лодку, поехал прямо серединой деревни, а сам с тревогой вокруг поглядывает.
У Дорки глаза блестят: очень все интересно! Дома в воде, а меж ними лодки, всюду крик, рев коровий, ребятишки плачут…
Вот их целый карбас везут к Солдатским Увалам. Из-за бортов головы торчат, как грибы из кузова.
А вот мужик растерялся, видать. Сам верхом на коне, в телеге один баран. Мужик кружится без толку у себя на подворье, вода уж в трубицы заглядывает, баран орет.
А у соседей, у Подъячевых, вся семья сидит на крыше: ждет помощи. Свою-то лодку у них сорвало льдиной, унесло. Ничего: с Увалов дядька Валей выгребает к ним на карбасе — вывезет.
Дорка глядит на отца — как он: не боится ли? Нет вроде. Гребет себе, рукава домотканной рубахи закатаны до локтей. Шапки на голове нет, темные волосы ветер треплет; в усах, в бороде сено, лицо в поту. Лодка идет кормой вперед: так-то отцу лучше все видно.
Недаром говорится: гром не грянет — мужик не перекрестится. Ведь с самого вечера наводнения ждали, на угор не раз бегали и все-таки проворонили. Под утро стукнул кто-то Кокориным в окошко: «Под Орлиной горой затор сорвало!»