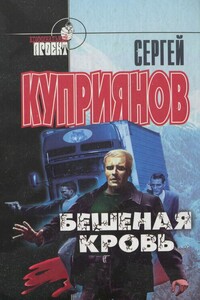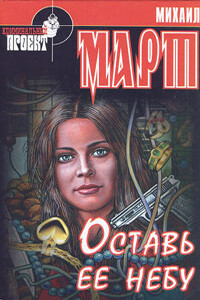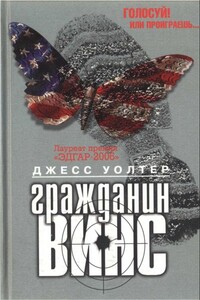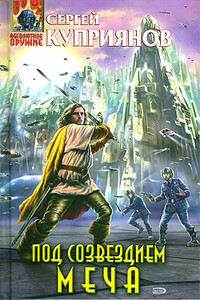Уперевшись локтем в днище, он мог согнутыми в суставах пальцами толкать крышку над собой. В ширину расстояние было чуть больше, можно даже чуть-чуть растопырить руки. Под голову он приспособил какую-то тряпку, скорее всего старый ватник. Так что было почти удобно, если не считать того, что все время приходилось лежать на спине, отчего тело затекало. И еще духота и нехватка кислорода. То ли хозяева специально так устроили, чтобы он или тот, кто оказывался или может оказаться в будущем на его месте, не испытывал излишнего комфорта, то ли просто не рассчитали, рискуя вместо полноценного пленника в скором времени получить задохнувшийся труп. Но зато тут было не холодно. Теплом своего тела и дыханием он довольно быстро нагревал небольшое замкнутое пространство.
Когда он тут очнулся впервые, то испугался до того, что начал биться. Он решил, что его похоронили заживо. По ошибке или с умыслом — его не волновало тогда почему. Хотя он думал, что специально. У Мамеда для этого были все основания. По крайней мере, он вполне мог проделать такую шутку — из мести или из своеобразного чувства юмора.
От помешательства его спасло одно обстоятельство. Был день, и он увидел, что сверху и сбоку на него падают несколько косых лучиков света, в которых кружатся поднятые им пылинки. Тогда он изогнулся немыслимым образом и исхитрился посмотреть в одно из отверстий, которое изначально явно было не предназначено для использования его в качестве иллюминатора. Он увидел кусок каменной кладки недалеко от себя и открытую дверь, а через нее можно было рассмотреть крохотный участок двора и клочок неба. Больше ничего. Но он понял, что не в могиле, во всяком случае, не под землей, и немного успокоился. Он перестал задыхаться, с трудом распрямился, едва не застряв при этом между стенками ящика в позе эмбриона, и принялся ощупывать себя, проводя ревизию причиненного его телу ущерба.
Первое, что он почувствовал, это боль во всем теле. От нее, видимо, он и очнулся. Болели руки, ныло лицо и разламывалась голова. К ребрам с правой стороны нельзя было притронуться. Наверное, несколько штук было сломано. Ощупав пальцами лоб и щеки, он понял, что они распухли и покрыты ссадинами. Били его нещадно, и даже непонятно, как только не убили. Впрочем, человек — скотина живучая и убить его не так просто, как это может показаться, глядя кинобоевики, где от каждого выстрела главного героя замертво падает по одному мерзавцу. Если бы это было так на самом деле, то в структуре армий не нужны были бы госпитали и санбаты, а все боксерские поединки заканчивались бы похоронами.
Придя в себя после шока, испытанного от сознания того, что похоронен заживо, он нехотя вспомнил, что с ним произошло до того, как он очутился в этом гробу. Воспоминания не доставляли ему радости, и без всякого ущерба для себя он не стал бы их вызывать сознательно. Но это было почти единственное, что связывало его с действительностью, — мостик воспоминаний, перекинутый в прошлое, которое было жизнью. А если он пока жив, то так или иначе ему нужно было идентифицировать, встроить себя в бытие. Хотя было оно безрадостное, но реальное, а не то ирреальное, замкнутое и душное пространство, в котором он сейчас находился.
Мамед и еще трое чеченцев, причем один из них, кажется, был арабом, били его долго и страшно. Сначала прикладами и дулами автоматов. Потом, когда он упал на землю, ногами в тяжелых армейских ботинках и снова прикладами. И все только за то, что он пожаловался Мамеду, своему хозяину, что их — его и еще одного парня, тоже пленного, превращенного в раба, вместе с которым он две недели подряд рыл землянки и окопы в горах, — плохо кормят. Сначала Мамед отреагировал довольно мирно. Он просто сказал, что им, собакам, и этого много. И тогда Самсон сделал ошибку. Его обманул мирный тон хозяина. Он сказал, что если им не увеличат норму, то они не смогут работать. Он имел в виду всего лишь то, что у них просто не хватит сил ковыряться лопатами в каменистой почве и долбить ее ломом. А Мамед, похоже, понял это иначе, то есть как угрозу забастовки рабов. С русским языком у него были очевидные проблемы, но главное было не это. А то, что рядом оказались его соплеменники, перед которыми он не хотел выглядеть слабаком. Может быть, и настроение в тот момент у него было соответствующим. Судя по всему, федеральные войска в последнее время здорово потрепали отряды боевиков. По крайней мере, минометная и артиллерийская стрельба стала намного ближе, изредка по горам прокатывалось эхо автоматных выстрелов, а чеченцы всю весну активно готовили укрепленные базы в горах и уже не выглядели такими самодовольными, как зимой, когда его взяли в плен.
Как бы то ни было, Мамед и его дружки били его до тех пор, пока он не потерял сознание. А очнулся он уже в ящике, который легко может превратиться в гроб. Сколько он пробыл без сознания, неизвестно. Может быть, несколько часов, а может, и пару суток. Было тесно и отчаянно хотелось пить. Хотя бы немного. Пару глотков. И еще — обмыть саднящее лицо. Потом вернулось чувство голода, ставшее за последнее время почти привычным. Голод был такой, что он даже пытался есть траву в горах. Ее было немного, и он не знал, можно ли ее есть. Но даже возможность отравиться его не пугала. Он уже дошел до такого состояния, когда смерть кажется избавлением. От унижений, от страданий, от чувства беспомощности, когда он, здоровый мужик, милиционер, не боявшийся до этого никого и ничего, вздрагивает от громкого окрика и съеживается от замаха руки.