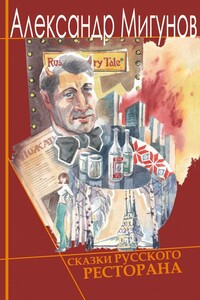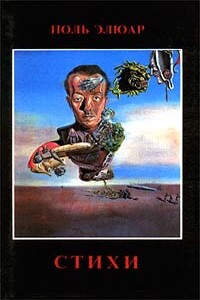Слышишь! Немного помедленнее, не спеши. У меня какая-то чушь вертится в голове и, если не скажу, задохнусь. Ну оттаял, ну размяк — опусти сейчас в вазу с водой, корни пущу, ей-богу, корни и цветочки. Со мной такое случается от вина. От вина, от осенних туманов, и еще когда выпадает первый снег. Нет, видит бог, стихов в жизни не писал. А вообще-то удивляюсь!.. «Венчалась Мери в ночь дождей, и в ночь дождей я проклял Мери»… Удивительные люди поэты… «Потеряла, бросила, как черкес стрелу»… А однажды знаешь что я прочитал? Женщина написала: «Мои груди все время повторяют впадины твоих ладоней»… Что-то в этом роде… Ладно, погоди, не надо. Ну, не надо, прошу тебя! Лучше посмотри на этот балкон, поникший, с облупившейся краской. Там жила наша учительница русского языка, Манана Георгиевна, состарившаяся в одиночестве, без семьи, без детей, воспитанница какого-то пансиона для благородных девиц. Французским владела, как мы с тобой грузинским. Когда-то она была замужем за офицером. Она прятала его фотографию, только раз мне показала: настоящий красавец грузин с тонким, сухощавым и гордым лицом, двадцати пяти лет погиб в Батуми. Кто только к ней потом не сватался, видная была женщина, и в старости была хороша, высокая, статная, но больше замуж не пошла. Говорила: «Не забывайте, что я грузинка…» Мы, ученики, очень ее любили. После занятий часто ходили к ней домой, то в лото играли, то в домино, а когда и хинкали вместе готовили. Но чем бы ни занимались, разговаривали только по-русски, такое было правило. «Помните, — твердила она нам. — Вы должны в совершенстве овладеть русским языком». Мы и старались. Если я сегодня что-то знаю, то благодаря Манане Георгиевне… Она умерла не то в шестьдесят третьем, не то в шестьдесят четвертом, и даже оплакать ее было некому, кроме нас, бывших учеников. Но что правда, то правда, похоронили мы ее очень хорошо и поминки устроили красивые. Ты знаешь, что она завещала? В нижнем ящике комода у нее хранилась сабля; она просила положить ее с ней в могилу. Так мы и сделали. Положили ей на грудь и поверх нее скрестили руки. Чья была сабля, не знаю — отца, деда или мужа? Скорее всего мужа, а, может быть, и отца, не знаю… Наши девочки очень плакали на похоронах… Ну, ладно, ладно… Я понимаю, что тебе нет дела ни до учительницы, ни до сабли, но послушай, к чему я все это рассказываю.
Сорок второй год, и эта же пора стоит — декабрь, первый снег только-только выпал. Немцы во-он там, по ту сторону Кавкасиони, но здесь тихо и спокойно, даже тише и спокойнее, чем сейчас. А потому, что из дому никто не выходит, а кто выходит, старается не шуметь! Снег местами протаял… У меня отпуск, с тем и прибыл. Ты знаешь, что со мной тогда случилось? В Баку окончил шестимесячную школу, прикрепили мне к петлицам по два зеленых кубика — и на фронт, на передовую. Но не успели переправиться через Терек, как налетели немецкие самолеты и разбомбили наш эшелон к чертовой матери. Мне осколком бомбы разворотило левую голень левой ноги. Столько крови потерял, что чуть концы не отдал, в глазах померкло. Подобрали меня, положили на носилки, повезли назад. Сперва в полевом госпитале отлеживался, потом в Махачкале. Месяца через полтора кое-как встал на костыли. Был там главврач, добрая душа, взял и отправил меня на побывку домой, на целый месяц. Приехал. Тогда отец еще здесь работал, мы жили внизу, у моста, в государственных домах. Мои рады, а я как воды в рот набрал, зубы стиснул, молчу, из дому не выхожу; мне двадцать лет, и, видишь ли, стыдно на люди показаться. Когда уходил на фронт, всем говорил, что или погибну, или вернусь героем! А на самом деле ни разу даже в немца не выстрелил, первая же бомба меня нашла. Просидел дома дней пять или шесть, очень наскучило это сидение. Встал, взял свои костыли и пошел к Манане Георгиевне. Снег вот такой же, как сейчас, и вроде бы тепло. На мне шинель, туго перетянутая широким ремнем, на одной ноге сапог, на другой калоша, и раненая голень тепло обмотана материнской кашемировой шалью. Сперва шалью, а поверх нее обмоткой. Весу во мне едва пятьдесят шесть кило. Иду легко, но осторожно. Поднялся к Манане Георгиевне, она оказалась дома. Сам знаешь, что такое война: очень на ней сказались эти полтора года, как-то она поблекла, побледнела, серая какая-то стала — и лицо, и волосы. Увидела меня, всплеснула руками: «Ой, бедный мой мальчик!» И в слезы. Все трогала мою ногу и спрашивала: «Больно? Больно?»

«Нет, — отвечал я, — не больно», — и смеялся. И знаешь, что она тогда сделала? Перекрестилась. Можешь себе представить, что это было в те годы для учительницы — перекреститься! Крестилась и что-то шептала по-французски — чтоб я не понял.
Потом говорит: «Как раз сегодня, — говорит, — мне принесли дрова», — и подкладывает в печку. Тогда создали какие-то отряды содействия и помощи, они и дрова принесли, бывшие ее ученики.
«У меня, — говорит, — есть тыква, давай мы с тобой ее сварим». Вытащила из-за шкафа большую желтую тыкву, нашла секач. Что оставалось делать? Взял я у нее секач. Расстелили на полу газету, положили тыкву, и только я разок хватил по ней, как в дверь постучали.