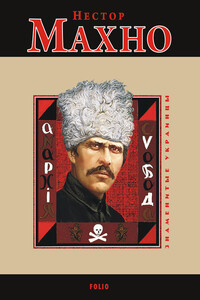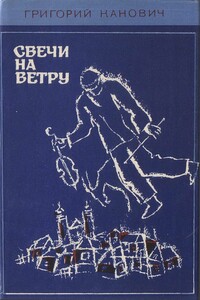Памяти моих земляков,
расстрелянных в сорок первом в Йонаве
Все евреи местечка звали Ицика, сына банщика Авигдора, не по данному ему при рождении имени, а по его фамилии с непременной приставкой — Бедный Ротшильд. Даже с уст местечкового раввина Гилеля, который назубок знал, как величают каждого еврея, вверенного ему на попечение Господом Богом, нет-нет да невольно слетало:
— Как поживаешь, Бедный Ротшильд?
— Слава Богу, живу, — без обиды, как будто так и положено, отвечал Ицик.
— То, что ты нашего Господа Бога славишь, — это, голубчик, очень хорошо, честь и хвала тебе за это, но с такой знаменитой фамилией ты все-таки мог бы жить и получше.
— Кому, рабби, жить лучше, кому — хуже, решаем не мы с вами, а Он, — и Бедный Ротшильд буравил заскорузлым указательным пальцем равнодушные небеса.
— Нет, — возражал рабби Гилель. — Господь Бог — не казначей. Он не деньгами ведает и их между людьми не распределяет. Его заботит не наше имущество, а наша душа. Есть на свете бедняки, которые богаты и крепки духом, и есть богачи, у которых камзол весь лоснится от золотых украшений, а под этим золотом зияют только пустота и бездна. Пустое сердце хуже пустого кошелька.
Пока был жив старый банщик, рабби Гилель с его единственным сыном и наследником Ициком никакого дела не имел. Главным человеком в местечковой бане был не Бедный Ротшильд, а его отец Авигдор. К Авигдору рабби Гилель каждую пятницу после утренней молитвы ходил попариться, понежиться на горячей полке, хорошенько пропотеть, похлестать себя березовым веничком и напоследок для бодрости облиться из шайки студеной водой — благо тихоня-речка текла тут же, под косогором. Осторожно ступая по мокрому полу, он нагишом выскальзывал в предбанник, снимал с головы шелковый платок, заменявший на время мытья бархатную кипу, переодевался в чистое белье — в белую рубаху и такие же белоснежные кальсоны, в широкие полотняные штаны и кургузый пиджак с крупными, как спелые вишни, пуговицами; обувал праздничные ботинки и, оставив на лавке плату, отправлялся домой освящать вино и хлеб и встречать царицу-субботу.
Когда у банщика Авигдора на старости стали трястись руки, а слова вдруг раскрошились на невнятные и разрозненные слоги, управление местечковым чистилищем перешло к Ицику, который успевал и за больным отцом присматривать, и воду из речки ведрами таскать, и печь топить, и веники вязать, и шайки чинить. Завсегдатаи бани диву давались: парень и ростом вышел, и лицом недурен, умелец, каких мало, а до сих пор подходящую пару не подыскал, живет на отшибе бирюком. Возмущались и женщины: что, мол, за баня без банщицы, пора уж Бедному Ротшильду жениться и наконец завести себе помощницу. Но тот вежливо и непреклонно выпроваживал из хаты всех сватов, покушавшихся на его свободу. Даже сватовство рабби Гилеля, который прочил ему свою племянницу Ривку, закончилось ничем.
— Получишь за нее хорошее приданое, — медленно и степенно облачаясь в предбаннике, искушал Бедного Ротшильда наставник всех заблудших и заблуждающихся.
— А зачем мне, рабби, приданое?
— Ты задаешь мне, голубчик, странные вопросы. Подумай сам: что крепче — любовь с приданым или без приданого?
— А зачем мне, скажите, пожалуйста, любовь?
Рабби Гилеля странности прихожан нисколько не удивляли. За время своего служения Господу Богу (а оно продолжалось уже почти полвека) он убедился в том, что евреев без странностей на свете не бывает — одни всю жизнь любят приданое больше, чем жену, другие — больше свою вторую половину, чем ее приданое, третьи, как и Всевышний, до гробовой доски предпочитают оставаться холостяками и женитьбу считают не богоугодным делом, а карой небесной.
— Если бы все думали, как ты, Ицик, мы бы давно вымерли. Кончился бы род Израилев. Разве тебе не хочется родить еще одного Ротшильда?
— Нет. Пусть, рабби, другие женихи банщиков мастерят! — отрезал Ицик.
— А может, ты смастеришь не бедного банщика, а какого-нибудь барона или лорда…
— Барона? А кто он такой, этот барон, рабби?
— Ротшильд… Ты, видно, о таком никогда и не слышал.
— Не слышал… В местечке только два Ротшильда — я и мой отец.
— Это в нашем местечке столько Ротшильдов, — сказал рабби Гилель. — А я говорю о Ротшильдах, которые живут заграницей, в Париже и в Лондоне. О них знает весь мир. Они, Ицик, не банщики и не раввины. Денег у этих Ротшильдов — хоть год сиди со счетами в руке, хоть два, все равно не сосчитаешь… От них зависят даже короли и министры.
Рабби Гилель улыбнулся, ласково погладил седую, клубящуюся святостью и белизной бороду и продолжал:
— С жизнью никакому фокуснику не сравниться. Она такие выкидывает коленца, что голова кругом идет. Может, говорю, ты и твой почтенный отец Авигдор не только однофамильцы этих самых богачей из Парижа и Лондона, а родственники? Только о своем родстве ни одна сторона и не догадывается. Ты — тут, в Литве, в нашем маленьком, как спичечный коробок, местечке, а они — во Франции и в Англии, в городах-великанах — Париже и Лондоне, которые в несколько раз больше всей Литвы с ее соседкой Латвией, вместе взятыми.
Он снова погладил бороду и распушил ее, как будто раздвинул легкое перистое облако.