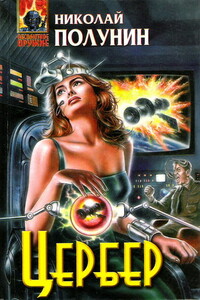МАНОН. Во мне осталось одно-единственное чувство: голод. Страшный голод, я могла бы назвать его одержимостью, фрустрацией, бессилием, манией, пустотой, зиянием, он преследовал меня постоянно, терзал изнутри и готовился сожрать совсем.
Он портил мне дни, отравлял ночи, не давая ни малейшей передышки, заставляя долгими часами лежать без сна, в муках и проклятиях; из-за него выцветали небо и восход солнца, веселая музыка наливалась свинцовой тяжестью, танцевальные мелодии превращались в похоронный марш, смешные фильмы — в греческую трагедию, природа — в пустыню, а мои мечты — в прах.
Он был как лихорадка, как кошмарный глюк, как ломка, — неутолимый голод, постоянно владевший мной.
Я ненавидела свою жизнь.
Я ненавидела Конечную, эту чертову станцию, которую знала, сколько себя помню, с ее заброшенной мэрией, где в большой регистрационной книге есть заявление отца и дата моего рождения, рядом с которой со временем появится запись «скончалась», и не надо будет ни менять девичью фамилию, ни место, только проставить небрежно дату и закрыть книгу. Конечная, этот забытый богом и людьми кусок асфальта, с фонтаном и скамейками на площади, монетным телефоном-автоматом, столетними платанами и того же возраста обитателями, полуслепым фонарем у окна моей комнаты, забегаловкой, в которой я выросла и в которой состарюсь, все в том же платье и в той же позе, с той же тряпкой в руках, вытирая все те же столы, что и в двенадцать лет, когда умерла моя мать, а я заняла ее место за стойкой, чтобы подавать все тот же вонючий кофе и пастис деревенским старперам, покуда наконец не уйду Следом за ней в рай для подавальщиц.
Я ненавижу слепящий уличный свет, безжалостное солнце, отраженное в убитой земле, удушающую жару, дурацкое пение цикад, не дающее мне спать, а когда удается чуть-чуть отвлечься, постоянно напоминающее о том, что я на Конечной и никуда отсюда не денусь. Я ненавижу сырость и сумрак своего старого дома — первый этаж для клиентов, на втором мы с отцом, — глинобитный пол, вечно закрытые ставни, искусственные цветы, сломанные ходики, ванночку для ног и свои детские рисунки в ванной, наивные до тошноты, прилепленные скотчем над зеркалом, почти выцветшие от пара и времени — отец не позволяет их снять.
Ненавижу свою комнату, балку на потолке и трещины на балке, я могу нарисовать их с закрытыми глазами, покрытый лаком деревянный шкаф, там моя одежда, а значит, он полупустой, доску на козлах, что служит мне письменным столом, рваные занавески в цветочек, кассетную магнитолу, которая включается через раз, постеры с кинозвездами, не подозревающими о моем существовании, свою узкую постель и ощущение тюрьмы, прежде всего ощущение тюрьмы: низкий потолок, теснота, смехотворно маленькое окошко, маленькое окошко, почти бойница, мой единственный выход в мир, а весь мир, какой я вижу, это площадь Конечной и старуха напротив, медленно подыхающая перед телевизором до самой зари, и мое солнце — полуслепой фонарь.
Ненавижу стариков перед домом, стариков, околевающих по вечерам на скамейке, рядком, словно галерея скверных портретов кисти одного и того же лузера, их лица, изъеденные заботами, желчью и нищетой, стариков, открывающих рот лишь для того, чтобы спросить друг друга, что они хавали вчера и что будут хавать завтра, а еще обругать — все, что им непонятно, все, чего они не видели, чего не имели, весь огромный мир, которого они боятся как чумы, всех, кто валит отсюда, а я тоже хочу свалить отсюда, и они ненавидят меня за это, ненавидят мою фигуру, мое лицо, потому что их дочки — толстухи и уродины, а я нет, потому что их дочки тут, на Конечной, и останутся тут вовеки, и они присвоили себе право критиковать меня, судить меня, уличать меня под тем предлогом, что я выросла у них на глазах и с того времени, похоже, «ижменилашь» — они глумливо шамкают, шипя это слово сквозь остатки зубов, злобно, по слогам, словно я преступница, да и то сказать, любое изменение здесь, на Конечной, — это преступление.
Ненавижу шоссе, что проходит через деревню, и тачки, что на полной скорости мчатся мимо, в неведомые дали, покуда я, безвольная и растрепанная, стою на опостылевшей обочине в облаке пыли, и глянцевые журналы, в которых все население земного шара загорает в Сен-Тропе, покуда я днями напролет протираю столы, и ненавижу телевизор в гостиной, единственный в доме телевизор, мутный и колченогий, под ним тумба на колесиках, а кругом обои в цветочек, обвисшие по углам, ненавижу за то, что каждый день узнаю из него все больше об огромном мире, а сам огромный мир не увижу никогда.
Ненавижу понтовых, лощеных телеведущих, огребающих кучу бабок за талант повторять слова за суфлером, говорить в микрофон и облизывать кого надо, и дурацкие игры, где люди вроде меня день за днем выставляют себя на посмешище, невпопад отвечая на страшно сложные вопросы типа «Кто из этих людей был глухим композитором: а) Майк Тайсон, б) Людвиг ван Бетховен, в) Винсент ван Гог, г) Человек Дождя», весь этот их псевдосаспенс, музыку для ужастиков, напряженную тишину в зале, нахмуренные брови ведущего и панический телефонный звонок старушке-матери, которую выдергивают из послеобеденного сна, чтобы она подтвердила, да, конечно, именно Майк Тайсон отрезал себе ухо во время съемок фильма с Томом Крузом и оглох, но, несмотря на глухоту, все-таки написал «Лунную сонату» и еще ту гениальную оперу про подсолнухи, нет, ответ неверный, объявляет ведущий, славный малый, он единственный выигрывает здесь миллионы, а теперь катитесь, возвращайтесь к себе в окошко железнодорожной кассы, в будку постового, на свой шлюз, в свой грузовик, в свой бордель, и проигравший, в полубезумном состоянии, убитый тем, что жирный куш проехал мимо носа, и ни капли не стыдясь своего непроходимого невежества, на глазах опечаленной Франции, спотыкаясь, уходит со сцены и едет назад, к своему шлюзу и темной старухе-матери, которую будет ругать до самой ее смерти, потому что это она во всем виновата, он хотел сказать «Бетховен», он ведь знал, он был уверен, и всю оставшуюся жизнь будет вновь и вновь пережевывать свой звездный час, и заездит до дыр кассету с записью, и уйдет в запой, чтобы забыть, как когда-то упустил свое счастье.