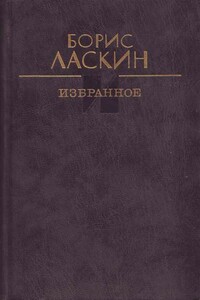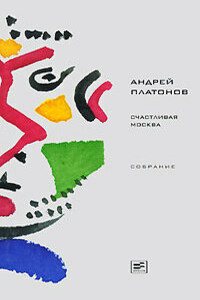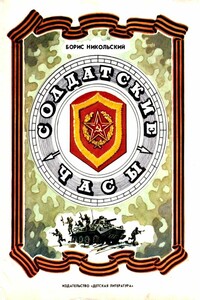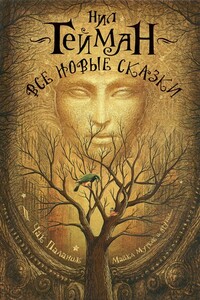I
Говорят: оттого бабы часто плачут, что глаза у них на мокром месте. А еще говорят: курица — не птица; баба — не человек. Не знаю только, правда ли это?
Если правда, то для чего существуют бабы на свете — никак не пойму? Ежели с мужем спать, да битыми быть, то очень уж это пакостно. Родить — ежели для этого только, так отобрали бы кои покрепче, поздоровее, отвели бы им жизнь и место особое, — и роди себе на здоровье, сколько требуется.
Гунявые, конечно, на это не годятся, — баб тут надо здоровых, ядреных, дебелых — что корова ярославка, к примеру.
И откуда, братцы, взялись эти гунявые? Сама жизнь, поди, на зло себе их понародила… Н-да…
А все-таки бабы-то нужны — ой, как нужны. Возьми-ка естество мужское одно, без бабы — то, какой в нем прок, а с бабой, глядишь, и жизнь малина, и зимой солнечно.
Н-да… Нужны бабы, конечно, нужны, только вот почему же нужная вещь в хороший счет у нас нейдет.
В наших местах, что жениться, что лошадь купить — одно и то же.
Но и тут заковыка: лошадь, ежели что, и продать можно, а бабу не продашь, да и не отпустишь, коль ребят народит тебе до дюжины.
В наших местах, лесных северных, всему жилому делу — мужик голова. На нем и ответ весь, а баба — раба его. И что он хочет, голова живота своего, то с ней и делает — потому как же иначе? Да, в жизнь, можно сказать, въелось это, и бабы наши такую машину крепко усвоили.
Примерно Дарья — баба пока еще крепкая, дебелая, по дому дело шутка-шуткой вьет — и хоть каждый день не однажды бьет ее муж Степан — хоть бы что. Ну, ежели там поплачет — и только.
Слыхала она, что судят мужиков ноне за это, да куда уж, думает, на старости лет грех заводить (тридцать два ей). Куда от него денешься? Да и так неповадно это — новина.
Вот и сегодня — с утра еще — словом не обмолвились, а все почему? — Да потому — не хочет Степан с женой разговаривать — делить с ней пополам полынь душевную. А Дарья заговорить боится — вдруг не угодишь — ну, и крышка, быть битой, всенепременно. Вот тут дела-то какие!
Изба у Степана небольшая, тесная (с осени новую думает поставить: бревна уж готовы — из казенного леса десять дерев по разрешению вывез, да сто тридцать ночным временем). Мечется по избе Дарья — переводы стонут. Обряд для Дарьи домашний — пустяк плевый: скотине пойла ведер восемь за сутки вынести, ведер с десяток с колодца воды вычерпнуть, печь вытопить, сварить, испечь, убрать, выстирать — ерунда. А вот за мужика, за Степана, за мужа обида съела — это уж хуже.
«Проклаждается — барин, подумаешь», — вертится у ней в голове между делом. — «Нет бы в сеновал сходил, принес бы хоть сена лошади — дело не бабье, мужицкое».
Степан с утра сидел на полу у лавки в переднем углу, мрачно, угрюмо насупившись, упер мочально-кудлатую бороду в колени и палил махру за цигаркой цигарку. В голове у Степана бурлит темно и неуемно, в груди щемит, на сердце — что кот скребет. Тоска.
— И чево это окаянное нутро мутит, — думает он.
— Черт-е знает — от налогу што ли… Хм. Право… Пес-е знает… Годы, кажись, ноне полегчали… Хм… Ишь, ведь, дерет — мать-е в трещину. Тьфу! — Степан с сердцем отбросил окурок.
— Бревна пойдтить доскоблить што ли. Березник за двор надо убрать непременно: нагрянет полесовой объездом — десятку, как пить дать, вывернет.
— Эва, ведь мутит, дьявол. Наскрозь прямо воротит… ей-бо.
— Бабу поколотить што ли — пройдет может. Ишь ведь, сволочь, лень сарафан-то ушить… Мымра… дать вот в лупетку-то.
Сказано — сделано. Что на языке, то и в руке у Степана. Вдобавок подвернул грех Дарью горшок уронить — разбился. Одной минутой Степана и взорвало.
— Ты чево это, сучья кровь, горшки-то бьешь! — зыкнул он. — На то рази покупаны-то. Думаешь хребет у мужика крепок — заработает… а-а?!.
— Упал ведь — не виновата я. Куриц нанес леший, — хоть бы выгонял, чем лаять-то, — ответила мимоходом.
— Упал… ах, ты стерва, мать твою эдак… Я те покажу упал… Сволочь!.. я те покажу вот, — заревел Степан.
Схватил со стены вожжи ременные — и давай полосовать жену, что перинину пыль выколачивая.
— Сволочь! Только и дела — языком трепать, да бить, да ломать… Выдра… У-б-б-бью!..
Что в нашем месте баба поделает, коли муж — всему голова? Ничего, да и только.
Вырвалась Дарья от мужа, выбежала на сарай, легла на солому яровицу, слезами передник вымочила, а потом снова впряглась за работу, — мол, ежели самой ничего не делать, — за бабу никто ни сделает. Пожаловалась только овцам да корове, участливо взглянувшим на бабьи слезы, как подкладывала Дарья корму.
Ежели вырвать коню хвост, — так воз ему от этого легче не покажется.
Хоть и поразвлекся Степан малость, да видимо худо — нутро тоской проклятой так наружу и выворачивает.
— Сволочь… — думал он, сидя на прежнем месте.
Закурил Степан, — нет помочи с сердцем.
Кисет и цигарку под печь бросил.
— Не табак, а дермо… с-советы-ы-ы.
Промелькнула было в голове думка о бревнах, да отмахнулся, как от мухи назойливой — не до того, успеется.
— К Кулихе сигануть што ли, — чикнуло в мозгу искоркой.
— Одну ежели… Эк ведь воротит — с чего бы это, мать-е в пробеги… Гм… Раз попробовать… Гм… Дорого, дьявол, берет-то… Гм… Одну ежели… Гм…