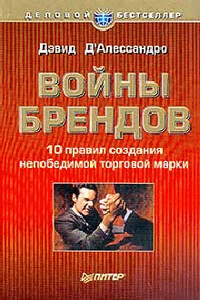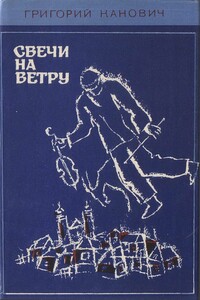Григорий Канович
Айзик дер Мешугенер
– Рассказ Никого старая Голда, сестра моей бабушки, так не любила, как своего поскребыша Айзика. Послушать ее, так только ради него одного стоило родиться на свет, выйти за доброго, но бестолкового сапожника Шимона замуж и принести еврейскому народу – вечному горемыке – такой приплод: пять дочерей и четыре сына. Приплод был бы еще больше, но двое не пожелали мыкаться и угасли от какой-то бродячей болезни чуть ли не в колыбели. Шимон, который день-деньской стучал молотком по чужим подошвам и каблукам, корил жену за то, что она безбожно путает имена своих любимых чад, кроме одного-единственного.
Тем желанным именем, которое то и дело срывалось с ее уст так трепетно, как воспаряла в воздух непоседа-ласточка, на миг прилепившаяся к своему крошечному гнезду, было – АЙЗИК.
Ни с кем старая Голда не была так ласкова, так отходчива и незлобива, как со своим младшеньким. Да он и впрямь заслуживал любви. Кроткий, черноглазый, с огромной копной вьющихся волос, несуетный и одержимый любопытством к тому, что творилось в природе, к которой большинство местечковых евреев было равнодушно, он напоминал странника-скитальца, забредшего ненадолго в местечко и попросившегося на ночлег к сердобольному сапожнику Шимону, который всех простодушно уверял, что там, где есть место и пища для дюжины своих ртов, всегда найдется уголок и краюха хлеба для пришельца.
На косые взгляды мужа, недовольного тем, что Голда балует младшего сына, она, лежа ночью на допотопной кровати, которую cоорудил к свадьбе молодых тесть невесты краснодеревщик Лейзер по прозвищу Клистир, с виноватой улыбкой отвечала: – Айзик!.. Да он у нас раввином будет.
– Ну и что? – спрашивал Шимон.
– Хватит с нас сапожников, краснодеревщиков, портных, могильщиков, не про нас с тобой, Шимон, да будет сказано, парикмахеров и водоносов… Помяни мое слово: Айзик станет раввином.
– Ну и что? – лениво, в который раз допытывался Шимон.
– Как «ну и что»? – гневалась Голда. – Кто-то штиблеты должен чинить, а кто-то и душу…
– Коль уж прохудилась душа, то хоть дратвой ее сшивай, клеем липучим склеивай, ничего не поможет – все равно дыра останется…
– Айзик выучится на раввина и замолвит за всех нас слово перед Господом… – не унималась она.
– Спи! Господь раввинов не слушает.
– А кого Он тогда слушает? – Никого. Все должны Его слушать. «Скажет солнцу – и не взойдет!» – припомнил он Тору. – Спи!
Голда закрывала глаза, и самые счастливые сны в местечке обступали ее головье. Ей частенько снилось, будто она, гордая, с сияющим лицом, в цветастой шали, в туфлях мягкой хромовой кожи, сшитых мастеровитым Шимоном, идет по главной улице в синагогу, поднимается на хоры и бросает торжествующий взгляд вн, туда, где вот-вот появится – да что там появится, спустится с небес! – ее бесценный Айзик в белоснежном талесе, в кипе и с Торой в роскошном переплете с золотым тиснением, взойдет на амвон, и все богомольцы примутся внимать каждому его слову и завидовать ей, дочери краснодеревщика Лейзера по прозвищу Кли Каждый сон, начиненный благодатью, облаком реял над допотопной кроватью, над вздохами и храпами, над сколоченной в незапамятные времена бой, над местечком, над всей притихшей землей, как шелковый талес Айзика. Ночь была прекрасна. Ах, если бы Всевышний сотворил только ночь или хотя бы продлил ее еще наполовину! При свете дня старая Голда чувствовала себя неуютно. Она торопила день, чтобы он скорее кончился, и подхлестывала его, как балагула зазевавшуюся лошадь: вьо! вьо! День не сулил ничего хорошего, он словно был лишен того радужного будущего, которого Голда с таким неистовством ждала. Ночью же приснившееся будущее представало перед ней во всем выстраданном блеске – в кипе заморского бархата, в золотом, как у Торы, тиснении…
Между тем Айзик, как и положено отроку, не морочил себе голову будущим.
Учился он без особой охоты, но и без подстегивания и натуги. Учитель реб Сендер на него не жаловался, ибо Айзик все быстро схватывал; знал наусть притчи Соломона; читал без запинки псалмы Давида; мог без ошибки ответить, сколько было лет Аврааму, когда он взял себе в жены Сару; на каком году жни скончался Аарон; кому и в каком месте являлся Господь Бог. На уроках вел себя тихо, хотя больше смотрел в окно, чем на доску или в тетрадь.
– Ты чего все смотришь туда и смотришь? – спросил у него однажды реб Се – Там же, кроме крыши пекарни, ничего не видно.
– Там видно больше, чем вы, учитель, думаете… Окно интересней, чем книга. Не велика беда, если страницу захлопнешь, а вот если окно замажешь…
Ответ Айзика поразил реб Сендера, который не терпел бесплодного суемудрия и путаных иносказаний, требуя от своих учеников только того, что знал и понимал сам.
– Что же, голубчик, случится, если окно замажешь? Ведь закрывает же каждый умный человек на ночь ставни – и ничего… Разве все надо видеть?.. Все видит только Всевышний. А нам с тобой необязательно…
– Я не согласен. Иногда человек видит то, чего Он не видит, – пронес Айзик, глядя на оторопевшего Сендера, и замолчал. После школы Айзик отправлялся не домой, а на реку и, сидя на косогоре, часами наблюдал за размеренным течением воды, за ее переливами и бликами. Казалось, он и сам растекался на мелкие ручейки и впадал в ее спокойный поток. Иногда он выпрыгивал нее скользкой чешуйчатой рыбой и, насладившись гибельной попыткой вспорхнуть ввысь, нырял обратно в пучину. С утра до вечера, не очень заботясь о еде, Айзик жил вместе с рыбами и водорослями на дне теплой и ласковой, как коровье вымя, реки и уносился по течению в неведомое, манящее море, туда, откуда ни родители, ни реб Сендер, ни старшие братья и сестры его никогда не выловят.