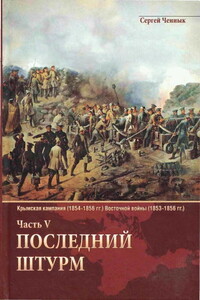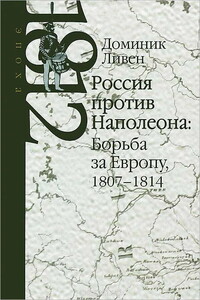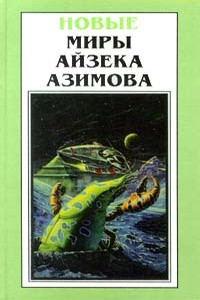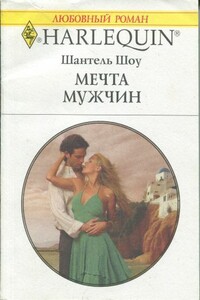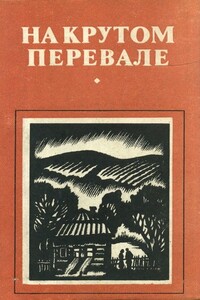Аурел Михале
Радость
Рассказ
До 1944 года мне удавалось уклоняться от мобилизации, но весной меня все-таки отправили на службу в Бухарест в пожарные части. С самого начала я был против войны, а теперь чувство ненависти к ней и гитлеровцам еще больше окрепло во мне.
В ту весну война добралась и до Бухареста. Американцы, чьи аэродромы базировались теперь на Юге Европы, начали довольно часто бомбить Бухарест. За одну ночь они разрушали целые улицы и кварталы. После подобных бомбардировок город долгое время горел, вверх взлетали языки пламени. А мы метались по городу, тушили пожары, извлекали из-под руин, из обрушившихся подвалов и укрытий тех, кто остался в живых. В основном это были женщины, дети и ошалевшие от страха старики. Чаще приходилось вытаскивать раздавленные, изуродованные или обожженные трупы. С пожарами и развалинами нам приходилось возиться от ночи до ночи, пока нас не заставала новая бомбардировка. Сначала я до какой-то степени радовался, что, по крайней мере, на время избавился от фронта, но то, что я видел и что приходилось делать, заставляло меня содрогаться от ужаса. Нет, я боялся не пожаров и бомбардировок — я не мог больше видеть мертвых, на которых постоянно приходилось натыкаться.
Из-за бомбардировок нас из города перевели в казармы за заставу Раховы, у перекрестка дорог, ведущих на Александрию и Мэгуреле. Но и здесь мы находились в постоянной готовности, всегда начеку и по первому сигналу вскакивали в машины и мчались туда, где были нужны. Там, в «колонне», как мы называли место своего расположения, мы спрятали все машины в построенные нами же подземные гаражи с низкими потолками, поддерживаемыми толстыми деревянными столбами и балками. Поверх гаражей лежал толстый пласт земли, на котором продолжала расти нетронутая зеленая пшеница и трава. Поблизости среди домиков окраины и под деревьями установили мы свои палатки и жили как в лагере, готовые рвануться куда-нибудь тушить пожар на полной скорости, на ревущих машинах, как только услышим звуки сирены, возвещающие конец бомбардировки. Иногда мы начинали действовать уже во время бомбардировки, когда самолеты еще ревели над городом. Огонь быстро охватывал здания, и много людей оказывались погребенными под руинами. Поскольку мы почти все перебрались туда, в «колонну», наши казармы на берегу Дымбовицы, в Грозэвешти, опустели. Там остался только караул, в обязанность которого входила и оборона казармы. Но так было до середины августа, пока однажды вечером командир роты не приказал одному из взводов в полном составе вернуться в город на длительное время, чтобы лучше организовать оборону казармы. В этом взводе находился и я. Уже на второй день на рассвете мы начали рыть новые траншеи вдоль кирпичной стены, выходящей на улицу. Не успели мы, однако, почти ничего сделать, как заметили нашего капитана, идущего вдоль окопа, отрытого едва ли по щиколотку. Капитан шел, внимательно приглядываясь к нам. Напротив нашего отделения он остановился и подозвал к себе старшего сержанта Марина Динику.
— Подбери трех надежных людей, — приказал капитан сержанту, — отправь их, пусть оденутся по форме, а сам зайди ко мне.
Динику, суровый по натуре человек, по-военному четко козырнул, вытянувшись по струнке, бегом вернулся к нам, оглядел каждого, будто видел нас впервые. Он был тонкий, низкорослый, чернявый, с холодным и колючим взглядом. Он сразу же выбрал сержанта Киру Петру, потом, не долго раздумывая, Георге Гуцана. Выбирая третью кандидатуру, он некоторое время колебался, затем, еще раз оглядев окоп и будто рассердившись на самого себя за то, что не может решиться, остановился на мне.
— Ташкэ Думитру!
Потом направился в канцелярию роты за командиром, а мы с Гуцаном и Петру пошли в казарму готовиться.
— Хорошо, что отделались от рытья траншеи! — обрадовался Гуцан.
— Подожди радоваться! — охладил его Киру. Он был по природе рассудителен и относился ко всему с известной долей сомнения.
Мы молча отнесли на место лопаты, отряхнули землю, надели свои выцветшие хлопчатобумажные гимнастерки и затянулись ремнями. Взяв из пирамиды винтовки, мы вслед за Киру отправились в казарму. «Окопы рыть или что другое — один черт!» — думал я.
Около часа нам пришлось ждать под шелковицей на сколоченной нами же лавке с вбитыми в землю ножками. Киру беспокойно курил, глубоко затягиваясь и выпуская дым в землю между коленок. Он не спускал глаз со ступенек, на которых должен был появиться Динику. Я с самого начала понял, почему старший сержант выбрал именно Киру: он был решительным, быстрым, умел выйти из любого положения, а Динику не любил повторять приказ дважды или долго ждать, пока его поймут. Мне также было понятно, почему выбор пал на Гуцана, которого мы между собой называли Мышью, потому что у него было узкое, вытянутое вперед лицо и маленькие быстрые глаза. К тому же хитер он был больше, чем хотел показать. Мышь был высоким, жилистым и сильным: он один мог протащить четырехдюймовые трубы метров на пятьдесят. К тому же Гуцан был смелым: бесстрашно взбирался он, как обезьяна, на восьмой или девятый этаж, входил в огонь и дым, как в воду… Но почему в числе этой тройки оказался я, мне было не очень понятно. Я не был ни очень быстрым, ни очень сильным. Может, потому, что я был более осторожным, или потому, что, как электрик по профессии, разбирался во многих вещах, а Динику хотел иметь такого человека при себе…