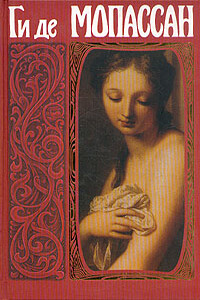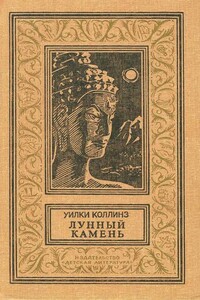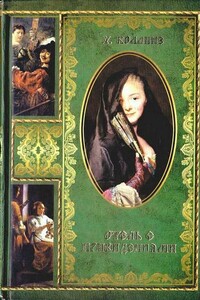Через два дня после ухода Мидуинтера из Торп-Эмброза миссис Мильрой, кончив свой утренний туалет и отпустив свою сиделку, через пять минут позвонила в колокольчик и, когда снова явилась эта женщина, спросила нетерпеливо, пришла ли почта.
— Почта? — повторила сиделка. — Разве у вас нет часов? Разве вы не знаете, что ещё рано спрашивать о письмах?
Она говорила с самоуверенной дерзостью служанки, давно привыкшей пользоваться слабостью своей госпожи. Миссис Мильрой, со своей стороны, по-видимому, привыкла к обращению сиделки, она отдавала приказания спокойно, не замечая этого.
— Когда придёт почтальон, — сказала она, — выйдите к нему сами. Я ожидаю письмо, которое должна была получить уже два дня назад. Я этого не понимаю. Я начинаю подозревать слуг.
Сиделка презрительно улыбнулась.
— Кого ещё будете вы подозревать? — спросила она. — Не гневайтесь! Я сама отворю дверь, когда почтальон позвонит, и мы посмотрим, принесу ли я вам письмо. Сказав эти слова тоном и с видом женщины, успокаивающей капризного ребёнка, сиделка, не ожидая, чтобы её отпустили, ушла из комнаты.
Миссис Мильрой, оставшись одна, медленно, с трудом повернулась на постели. Свет от окна прямо падал на её лицо.
Это было лицо женщины, когда-то прекрасной и по летам ещё не старой. Продолжительное страдание от тяжёлого недуга и постоянная раздражительность изнурили её до такой степени, что от неё, как говорится, остались кости да кожа. На разрушение её красоты было страшно смотреть, хотя она и предпринимала отчаянные усилия скрыть это от своих собственных глаз, от глаз мужа и дочери, даже от глаз доктора, лечившего её, а он-то должен был знать правду. Голова её, из которой вылезли почти все волосы, может быть не была бы так неприятна на вид, если бы не отвратительный парик, под которым она старалась скрыть свои потери. Никакие изменения цвета лица, никакая морщинистая кожа не могли быть так ужасны на вид, как румяна, густо лежавшие на её щеках, и белая глазурь, прилепленная на лбу. Тонкие кружева, яркая обшивка на блузе, ленты на чепчике, кольца на костлявых пальцах — все, имевшее целью отвлечь глаза от перемены, пронёсшейся над нею, напротив, привлекало взор, увеличивало её и силой контраста делало ещё ужаснее, чем она была на самом деле. Иллюстрированная книга мод, в которой женщины и девушки демонстрировали свои наряды в различных позах и движениях, лежала на постели, с которой больная не вставала несколько лет без помощи сиделки. Ручное зеркало находилось возле книги, так что она легко могла его достать. Миссис взяла зеркало, когда сиделка вышла из комнаты, и взглянула на своё лицо с таким интересом и вниманием, которых она застыдилась бы в восемнадцать лет.
— Все старше и старше, все худее и худее! — сказала она. — Майор скоро будет свободен, но я прежде выгоню из дома эту рыжую шлюху!
Она бросила зеркало на одеяло и сжала кулак. Глаза её вдруг остановились на небольшом портрете её мужа, висевшем на противоположной стене. Она поглядела на этот портрет со свирепым выражением глаз, как у хищной птицы.
— На старости лет у тебя явился вкус к рыжим? — сказала она портрету. — Рыжие волосы, золотушный цвет лица, фигура, обложенная ватой, походка, как у балетной танцовщицы, и проворные пальцы, как у вора. Мисс Гуильт! Мисс с этими глазами и с этой походкой!
Она вдруг повернула голову на подушке и засмеялась безжалостно, саркастически.
— Мисс, — повторила она несколько раз с ядовитой выразительностью, самой беспощадной из всех видов презрения, презрения одной женщины к другой.
В девятнадцатом веке, в котором мы живём, нет ни одного человеческого существа, которого нельзя бы понять и извинить. Есть ли извинение для миссис Мильрой? Пусть история её жизни ответит на этот вопрос.
Она вышла за майора в весьма раннем возрасте, а он был в таких летах, что годился ей в отцы. В то время он был довольно состоятельным, весьма обаятельным человеком, пользующимся хорошей репутацией в обществе женщин. Не получив большого образования и будучи ниже своего мужа по интеллекту, она, польщённая его интересом к своей особе, весьма тщеславной, наконец, поддалась тому очарованию, которое майор Мильрой в молодости производил и на женщин гораздо выше её во всех отношениях. Он, со своей стороны, был тронут её преданностью и в свою очередь поддался влиянию её красоты, её свежести и непосредственности молодости. До того времени, когда их единственная дочь достигла восьмилетнего возраста, супружеская жизнь была необыкновенно счастлива. Но позднее двойное несчастье обрушилось на их дом: расстройство здоровья жены и почти полная потеря состояния мужа, и с этой поры домашнее счастье супругов кончилось.
Достигнув того возраста, когда мужчины способны под тяжестью несчастья больше покоряться своей участи, чем сопротивляться ей, майор собрал последние остатки своего состояния, удалился в провинцию и постепенно нашёл успокоение в своих механических занятиях. Женщина, ближе подходившая к нему по возрасту, или женщина с лучшим воспитанием и с более терпеливым характером, чем его жена, поняла бы поведение майора и сама нашла бы утешение, покорившись судьбе. Миссис Мильрой не находила утешения ни в чём. Ни интеллект, ни воспитание не помогли ей безропотно покориться жестокому бедствию, поразившему её в расцвете молодости и красоты. Неизлечимая болезнь поразила миссис вдруг и на всю жизнь.