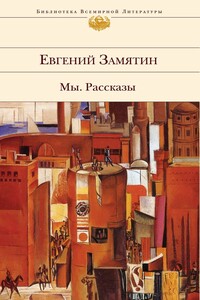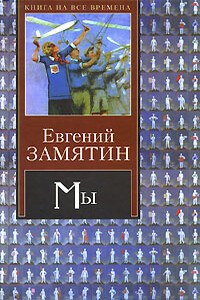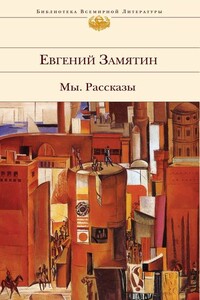На улице солнце. Дорога просохла. Вьется апрельская легкая пыль. И так сладко-больно глядеть на первую пыль, что может даже слеза застить глаз. А может, и так это – облако мимо летит, и никакой нету слезы, что, правда, за глупости такие!
А больших – это, вот, да: больших Насте жалко, уж наверно не могут они понять, что за сласть – сидеть вот и на первую пыль глядеть. Настя, будь ее воля, день бы целехонек тут на окне просидела, да дела, нельзя: одеваться, в гимназию идти – книги – шляпа… А вчера он про шляпу сказал:
– От вашей шляпы одни фикции болтаются: пора бы ее в печку.
А ну ее, правда! И – шляпу под стол, золотую косу – через плечо, вниз по ступенькам, через две, через три.
У ворот – липа, листьев нету еще, так только – дымка зеленая, повитая солнцем. А под липой – он стоит: чуть пробились усы, и любимое у него слово – фикция. Каждый день стоит тут и ждет. И каждый день воробьенком бьется сердце у Насти. Потому что ни разу еще не объяснялся он, и как знать – может, сегодня-то вот и… А тут еще вчера пари это Настя ему проиграла – за то, что спросили, а двойки он все-таки не получил. Мало ли, что он теперь может потребовать?
Настю провожал всегда Коля до старых городских, от зеленого мха корявых ворот. Тут, прощаясь, Коля вспомнил случайно – совершенно случайно:
– Ах, да, пари-то мое ведь? Во-от, чуть не забыл!
Держит Настину руку, не отпускает, покраснел весь, голос чужой стал, басовитый – со страху:
– Я могу… потребовать. Я ни при чем, вы сами зачем затеяли…
Духу набрал – и головой в воду – ух!
– …И вот хочу вас теперь поцеловать, и вы должны, потому что пари, а то – подло.
Нагнулся к Насте. Повторенный эхом – нежный, чуть слышный звук. И… Настя ни чуточки даже не осердилась. Ну, хотела же, правда – хотела, и увернуться тоже хотела, а вышло: не увернулась, а может быть, даже… Глаза Настя на минуточку малую закрыла, под ногами качнулось. Да, наверное, знаете, видели – вихорьки такие в апреле на улицах бывают: маленький, прозрачный закружился, и уж глядь – оторвался от земли – и к небу. Вот и Настя теперь летит так и не знает: где, когда, что…
Глаза открыла – очень плохо все видно. И не понять: куда Коля девался и откуда взялась – стоит Алексевна перед Настей.
– А-а, Настенька, здра-аствуй, милая, здравствуй! Что же это, с кавалерами-то уж на улице стала теперь целоваться? Вот оно ка-ак?
Так-так-так.
А сама все ближе подвигается, и видать уж волосы на подбородке у Алексевны – на бородавках – трясутся от радости.
– Ах ты, б-бесстыдница, ах-ах-ах, а? Вот погоди: вот мамаше просвирочку заздравную отнесу, я ее – про дочку-то ее обрадую…
…Что – говорить? Что толку просить? Алексевну-то? Старую девку-то эту? Да разве ее упросишь?
В гимназии забудется все на минуту, закружится, пропадет в веселом весеннем шуме. Такое ведь за окном солнце. И вдруг – бледнее день, и клонится, вянет Настина голова.
«Об этом – о самом моем… Об этом – будут вслух? О!»
Звонок. Конец. Но домой нельзя еще идти: дождь. Столпились все внизу, в раздевальной, открыли окно в сад.
Там – зеленое притихло все, испугалось: а ну-ка вдруг конец веселому маю, солнцу – конец? Нависло-потемнело.
А Настя – о своем: «Как все быстро это вышло и просто. Должно быть, все ужасное – просто».
Вдруг как запрыгают светлые капли, как засверкают. То-то потеха!
Набросились на зеленое, шумят, шебаршат: буйную какую-то школу ребятенок выпустили на перемену – и они подняли веселый содом.
И опять смотрит солнце – еще яснее: умылось. Апрельские слезы – недолги.
Дома. В передней – противные Алексевны калоши глубоченные и шугайка висит, рыжая. Значит…
Мать вышла Насте навстречу – с низким поклоном:
– Пожа-алуй, дочка дорогая, пожалуй, любезная!
И начинается. Все, до последнего – и как же ее стыд не зазрит! – все рассказывает, подхихикивает Алексевна. Настя к стене прислонилась, руки – за спину. «Господи, помоги, Господи… А Коля – говорил, что не верит уже и что надо выйти из детских рамок. Нет, Господи, нет, помоги!»
Мать зажигает новую папиросу:
– Ну, что же, правду сказывает Алексевна-то? А?
– Пра… правду, – сгорела вся Настя, но глаз не опустила.
– Правду, а? Сознается, глаза еще пялит, а? Да если ты с этих пор… Что же из тебя выйдет-то? Господи-батюшки, наградил ты меня!
Алексевна главой покивает, вздыхает, гладит бархатный свой ридикюлец: о-хо-хо-хо!
– …А этого, героя твоего – я его юбошничать отучу-у, – мать стучит мослаком по столу, – я его отучу-у! Нынче же вечером вот поеду – и директору реальному все расскажу. Попрут – так ему и надо: не юбошничай.
Нет, вот оно когда – ужасное-то… Очень тихо Настя сказала:
– Хорошо. Если ты, правда – директору, то я знаю, что сделаю…
Что же: только посильней перевеситься за окно – и вся недолга. Небось тогда мать пожалеет, да уж…
– Каково? Она ж еще смеет грозить? Пошла си-ю минуту в мою комнату, и чтоб шагу не смела. Удерет? Ну, не-ет, чтоб не удрала… Да ты, никак, Алексевнушка, уж уходишь? Ну, прощай, прощай, спасибо. В воскресенье-то, обедать, гляди, не забудь.
…Чтобы не удрала дрянь-девчонка, отобрала мать у Насти чулки-башмаки и в комод их приперла.
Одна осталась, села Настя на кровать, согнулась, тоненькая, в три погибели, спрятала слезы в подушку.