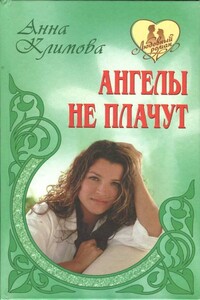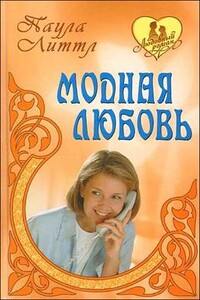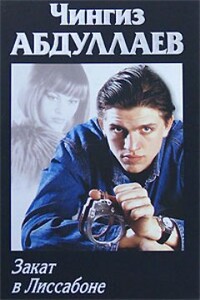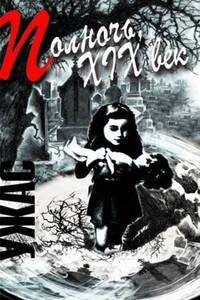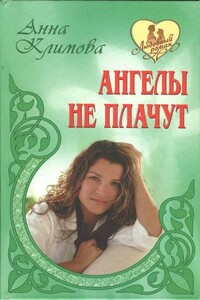Кто-то сказал, что гитара, как и скрипка, способна более всего отражать настроение души.
Степан Рогожин почувствовал это сразу, как только научился брать аккорды и извлекать из старенькой гитарки, купленной у соседа-пьянчужки за гроши, более-менее приятные для слуха звуки.
Эта первая гитарка Степана, словно чемодан туриста, изобиловала яркими переводными картинками, большинство из которых состояло из лиц женского пола. Овальные портреты загадочно улыбавшихся женщин вызывали ощущение чего-то далекого и немножко наивного, как клеши семидесятых или рубашки с огромными отложными воротниками. И звук у гитарки был из той же породы — наивно-пронзительный, как воспоминания о детстве.
Да, возможно, Степан потому и купил эту гитарку — слишком часто в детстве слышал звук ее струн, терзаемых неверной рукой Пашки-Трубача (Трубачом Пашку назвали потому, что, купив в магазине дешевенький портвейн, он тут же открывал бутылку и начинал жадно пить вино из горлышка, высоко закинув подбородок и подбоченясь левой рукой, словно пионер-горнист). Видно, Пашка дошел до последней стадии своего жертвенного служения зеленому змию, если решился расстаться с единственной усладой жизни — гитаркой с красавицами на янтарных боках.
«Ты ее… эта… береги, — слезно просил Трубач. — Я ж с ней, бля, с самого БАМа не расставался».
На БАМе Пашка-Трубач срочную служил. Строил дорогу в вечной мерзлоте. На фотографиях, которые он показывал каждому гостю, Пашка выглядел настоящим красавцем в лихо заломленной шапке с кокардой, в кителе, расстегнутом «до пупа», и белозубой улыбкой. Казалось, тот паренек давно сгинул, пропал без вести, а вместо него появился Пашка-Трубач, тихий, несчастный выпивоха, плохо пахнувший и еще хуже выглядевший, от которого ушла жена с детьми. И не бобыль, и не женатый мужик. Ничего у него не осталось. Все прожил, все пропил.
«Я ж ее через… огонь и воду пронес, — продолжал Пашка-Трубач, наливая водку, купленную за проданную гитарку. — Она же у меня тут… — он оттянул грязную порванную майку и постучал себя по груди. — Я ж ее любил больше, чем Райку свою… Потому ты, Степа, как родную ее береги. Христом Богом прошу… Будешь?»
Протянутый стакан был Степаном отвергнут, но гитарку беречь пообещал. Пашка слюняво поцеловал его на прощание и расплакался, завыл, как раненый зверь. Хотя, возможно, он таковым и был. Большой раненый зверь в своей берлоге. Мебели в квартирке Пашки-Трубача почти не осталось. Одинокая лампочка под потолком освещала грязный продавленный диван в углу да кухонный стол, заваленный объедками и пустыми бутылками. Пашку было жалко. Хорошим он был парнем. И по сантехнике соображал, и столярил. Соседи по дому помогали ему, увещевали, лечиться заставляли. Пашка плакал, лечился, а все одно то лечение до первых живых денег в руках… Вот и махнули на него все рукой, мол, живи ты, братец, как Бог или черт на душу положит! И хотели бы тебя из болота вытащить, да, видно, свинья грязь везде найдет.
Вот Пашка и дошел совсем до ручки однажды. С гитаркой своей, дрожа то ли от холода, то ли от спиртного голодания, пошел по квартирам, стыдливо предлагая купить ее у него. Степан и купил. Тогда ему четырнадцать стукнуло. Уж очень хотелось на гитаре научиться играть. Девчонки весьма благоволили к людям, умевшим ловко перебирать струны и извлекать из них мелодичные звуки. Даже денег копил на магазинную гитару, а тут такой случай подвернулся. Получив деньги, Пашка понесся в магазин и пригласил Степана «обмыть» покупку. Степан, конечно, пить с Трубачом не стал, а просто вежливо выслушал еще раз историю о долгом и славном пути гитарки в городок Запеченск, где она обрела своего второго хозяина.
Долгими вечерами Степан учился игре. Мать и сестра старшая уж взмолились, что напасть такая в доме завелась. «С утра до ночи — дрынь да дрынь! — преувеличивала мать, жалуясь подругам. — Уж голова раскалывается». — «Господи, да пусть парень «дрынькает» себе! Все ж лучше, чем по подворотням шататься. Вон, Димка из 32 квартиры в детской комнате милиции скоро поселится, окаянный. С взрослыми мужиками винище хлещет да сигаретки стреляет. А твой — не пьет, не курит. Учится, небось, хорошо».
«Да какое там хорошо, — оттаивала мать, которую радовало выгодное сравнение ее сына с Димкой из 32 квартиры. — Лодырь из лодырей. Раньше-то хоть заставить могла, а теперь взрослый мужичище. Поди, укажи ему что».
Мать действительно была довольна, что Степка не слишком жаловал своим участием дворовые компании, насмешливые да распутные. Потому к «гитарному» увлечению сына относилась более-менее спокойно. Зато сестра, готовившаяся к выпускным школьным экзаменам, воевала с братом не на шутку. «Я твою чертову гитару выкину в окно! — зловеще обещала она и выкрикивала отчаянно: — Я могу хоть один вечер спокойно позаниматься или нет? Мам, ну скажи ему!»
Оля, боровшаяся за школьное выпускное золото, начинала отчаянно рыдать, и тогда мать робко замечала: «Степа, ты бы на самом деле играл потише».
Степан вздыхал, закрывал самоучитель и подходил к сестре. «Ты… это… сестрица, не серчай, — говорил он, преувеличенно окая и подпуская «боярской» густоты в голос. — Даст Бог, к осени найдем тебе жениха. Писаного красавца… — И матери громким шепотком: — А то совсем девка одичала за книжками да за премудростями этими. Ой, мамаша, боюся, как бы сестрица умом не тронулась».