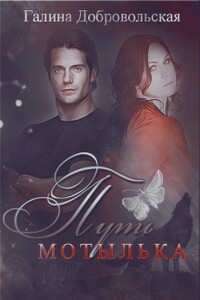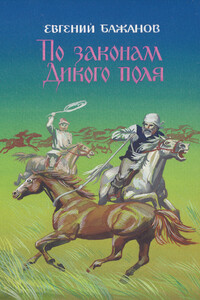Шёл сто двадцать первый год новейшей эры. Ничего такого особого сто двадцать лет назад не произошло. Просто люди устали от сосуществовавших различных летоисчислений и необходимости каждый раз пересчитывать где какой год от какого события. И решили начать с нуля, а эру назвать новейшей.
С того нулевого года прошло много лет и совершилось множество событий. Важных и даже важнейших для участников и малозначащих и даже ничтожных для свидетелей. Одним из таких событий была война.
Война началась так давно, что выросло и отвоевало несколько поколений. Теперь она казалась привычной и даже не особо опасной или тяжёлой. Человек ведь привыкает ко всему, на то он и человек. Выживет там, где любая скотина сдохнет или взбунтуется.
И вдруг война кончилась. Как кончается всё, и хорошее, и плохое.
Закончилась война, как и полагается: блистательной победой одних и безоговорочной капитуляцией других. Началась новая жизнь. Новая жизнь оказалась сразу и хуже, и лучше прежней, потому что была другой. Но люди оставались теми же, и многие упрямо пытались жить по-прежнему, не считаясь с переменами, но были и те, кто считал выгоднее приспособиться, а не спорить.
Конечно, жизнь изменилась. Но для них не настолько, чтобы они растерялись и не знали, что делать. Как что? Приспосабливаться, вот что. К войне приспособились, значит, и к миру приспособится. Каждый по-своему, конечно.
Первая весна свободы была холодной и дождливой. Толпы бывших рабов и бывших рабовладельцев брели по разбитым дорогам, грелись у костров, дрались, а то и убивали друг друга в коротких ожесточенных схватках, и снова разбредались в поисках еды и тепла.
Каждый опасался всех. Ватагой или семьёй, конечно, сподручнее отбиваться, но одному легче прокормиться, ни с кем не делясь.
Декабрь 1992
* * *
Его разбудила боль. Видимо, в тесной куче тел кто-то задел рану на щеке. Или плечо. Он невольно дёрнулся, тревожа соседей, и все зашевелились, задвигались. Кто-то надсадно закашлялся, несколько голосов ответили руганью. Эркин осторожно поднял голову: небо заметно посветлело, звезды уже не различались, или это у него с глазами что-то? Глаз тоже болит. Он хотел поднять руку, пощупать голову, но боль в плече снова отбросила его в беспамятство.
Когда он пришёл в себя, было уже совсем светло, и вокруг клетки, как и вчера, толпились зеваки. Хохотали, показывали пальцами, тыкали палками. И опять было негде укрыться. Они сгрудились в центре клетки и так стояли, цепляясь друг за друга.
— Оклемался? — шёпотом спросил его высокий негр в залитой кровью рубашке.
Эркин понял, что это он держал его, не давая упасть к решётке, под палки, и благодарно кивнул.
— Держись ты за меня теперь. Отдохни.
Негр молча мотнул головой. Но Эркин уже твёрдо стоял на ногах и сам обхватил привалившегося к нему слева и оседавшего на землю парня. Парень уткнулся лбом в его плечо и тяжело со всхлипом стонал. Так, сцепившись воедино, поддерживая друг друга, они сгрудились в центре клетки, спиной к решётке, не отвечая, даже не оборачиваясь на издевательские выкрики. Вчера они пытались ещё что-то сказать, объяснить, просили воды… И получили. Им показали банку и предложили подойти, дескать, между прутьями банка не проходит. Один подошёл, и ему плеснули в лицо кислотой. Вон он стоит, вернее, его держат, голова обмотана какими-то тряпками.
— Джен, Джен! Ты только посмотри на них! — пронзительно верещал высокий женский голос.
Эркин вздрогнул: и через столько лет он не мог спокойно слышать это имя. Он медленно повернул голову и нашёл взглядом крикуху. Маленькая, толстая, с прилипшими ко лбу кудряшками, она подпрыгивала, пытаясь дотянуться до них зажатой в пухлом кулачке палкой, не ударить, так ткнуть. А кого она звала? Так же медленно Эркин вёл глазами по толпе. И нашёл её, не поверил себе и снова посмотрел. Да, это она, это её лицо Она только похудела, и глаза как будто потемнели… Эркин резко отвернулся. Нет, он не видел её, не было её здесь. То, единственное, что было у него в жизни, он не отдаст, никому, и ей тоже.
Он не видел, как она резко оттолкнула от себя решётку и стала выбираться из толпы. Он не видел, что она узнала его.
День тянулся бесконечно долго и оставался серым и холодным. Начинался и переставал дождь. Они падали от голода и усталости и вставали под ударами.
Казалось, весь этот проклятый город собрался у клетки, бросая в них камнями и грязью, обливая руганью и нечистотами из заботливо принесённых вёдер.
Эркин уже плохо сознавал окружающее, от голода кружилась голова, от кашля болела грудь, да ещё плечо… и щека… холодный порывистый ветер выдувал из мокрой куртки остатки тепла. Лечь бы, и чтоб уже ничего не чувствовать, ничего. Тупое рабское оцепенение. И единственное, на что их хватало, это не расцеплять рук, держаться друг за друга.
Темнело, и толпа расходилась.
— Холодно им, — не зло, даже сочувственно сказал кто-то.
— Завтра погреем, — сразу ответили ему, и толпа радостно загоготала, засвистела.
Расходились, договариваясь о времени, о бензине…
Наконец, ушли все.