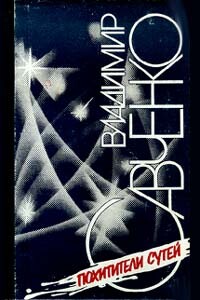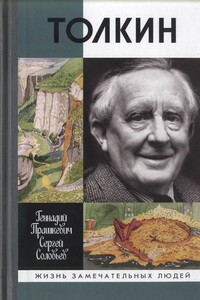У каждого с Индией (а точнее - наоборот) своя история. Моя началась в междуречье отношений с австрийской герцогиней в длиннополом пальто, гаврошьей фуражке и блекло-голубыми, как бы выгоревшими от яркого солнца глазами.
Имя у нее было осеннее, стелящееся под ноги, густое, травное. Вместе с тихой цветочной геральдикой ее фамилии вызывало состояние легкого обморока. Имя, глаза и худенькая, вся испещренная зыбкой ветошью линий ладонь. Ксения.
Смысл нашей истории становился все непроглядней. Мысль об Индии возникла как бы случайно, в тот же день мы получили визы и взяли билеты.
Сны комкали дни, перекладывая их из руки в руку, змеи дышали в лицо, затуманивая его, как зеркальце. Чувства, спешась, вели на поводу судьбу - углами.
Жила она напротив церкви - стеклянной, серебристо-черной, как рентгеноснимок, меняющий окрас от светопреломлений. Прозрачный лифт в прозрачной колокольне, выход в небо. Тишь улицы, в чьем имени любовь и смерть прикипели друг к другу, как в мороз язык к железу.
Я подходил, глядел в ее окно - на солнечные свастики верблюдов, бегущих ряд за рядом по талому снегу задернутых занавесок. Уходил. Спиной вперед. И возвращался. И она кружила - незримою рукой вперед - по городу.
Предчувствия душили.
Врозь. С собою врозь. Треугольники комнат косили из углов, скрадывая себя вращеньем.
Черно-белая спальня, с нами на ощупь. И цветная, зажмуренная тьма светелки - ее, без я. Ушко коридора.
Май за окном. Майя неба с собачьей будкой - пустой. Бледные искры реки. Перевернутые лодочки ладоней.
Почему бы и нет, - сказала она, опуская их в воду.
Искрило. Прошлое стояло во тьме за спиной, как живой и притихший мешок, изнутри затянувший свою горловину.
Оставалось несколько дней до отлета туда, откуда, как известно, с тем же именем не возвращаются. О если бы только это, - так я думал тогда. Пожать руку воздуха.
Мюнхен - Париж - Дели. Стюардессы в марлевых масках шли стройной шеренгой по проходам, как по подиуму, вытянув руки вперед и прыская из газовых баллончиков в невидимого врага. Запах "шанели" и дихлофоса. Профилактика "атипичной пневмонии".
Ксения сидит у окна, на ее коленях - килограммовый немецкий путеводитель по Индии. Одним глазом читает, другим в иллюминатор поглядывает, третьим дремлет. Белые парусиновые штаны со свободной рубахой. Навыпуск, в отличие от меня. Передо мной на откидном столике лежит раскрытый блокнот. Перед отъездом я договорился с еженедельником "Другие дни" о записках с дороги. Если сложится. Начало уже сложилось. Я взял карандаш.
"После того как отрезана голова и снята кожа, ты цепко ухватываешь большим и указательным пальцем шейный позвонок и, скользя вдоль хребта, расслаиваешь ее плоть на две продольные лесбийские половины так, что в руке твоей не остается ничего, кроме цветущего фосфора - белой морозной веточки ее позвоночника. Вот, примерно по этому домашнему рецепту разделки сельди, что ты должен сделать с собой, отправляясь в Индию. Стереть всё, что ты знал, значил и мнил, и кем надеялся стать, - сказала мне недавно вернувшаяся оттуда жена приятеля.
Друзья единственного человека, живущего в Индии, с которым я был знаком, - свами Амира дали мне его контактный телефон. Это, добавили они, личная телефонная будка его друга Джаянта (гигант, - англ.), стоящая на улице некоего городка Ришикеш в верховье Ганга. Трубку держать надо подольше.
Сам Амир живет на холме в крайнем доме под манговым деревом, облепленным обезьянами, за которым - уходящие на сотни километров в сторону Гималаев - безлюдные джунгли.
На веранде в утренних лучах, развалившись в шезлонгах, нежатся королевские кобры со сдвинутыми на затылок солнцезащитными очками, над ними в пятнистой листве баньяна поблескивает золотой фиксой зрачка леопард, сонно щурясь на соседнее дерево, где серебристо бородатая обезьянья мадонна прижимает к тощей умбристой залысинке груди новорожденное, еще в пленочке небытия, дитя с тикающей головой. Амир по утрам спускается к Гангу, перешагивая курящиеся вавилонские башни слоновьего помета, и после медитаций и омовений порой наведывается в городок.
Так это виделось.
Шли гудки. Я держал, как сказали. Легче было представить эту будку на луне. И гиганта, невесомо увесистым шагом пылящего к ней.
"Джаянт слушает."
Это было за день до отъезда, на попытки связаться с Амиром уже не оставалось времени.
Есть ли у него машина? "Да." Смог ли бы он встретить в аэропорту? "Нет проблем." Как далеко Ришикеш от Дели? "Пять с половиной часов." Мог ли бы он передать Амиру, что я в 8 утра буду ждать его у Ганга в том месте, о котором они с Джаянтом условятся? "Нет проблем." Рейс такой-то, имя - напиши на бумаге. "Окей." И гудки.
Бред, подумал я, и положил трубку."
В пять утра, уже на подъезде к Ришикешу, мы пересекли пересохшее каменистое русло одного из притоков Ганга. Джаянт кунял на переднем сидении фольксвагена-комби. Ксения высматривала под сереющими деревьями дремлющих будд-шив-вишн или их аватар и, надо сказать, не без оснований.
Я, цедя из литровой бутыли 70-градусную домашнюю сливовицу, сунутую мне "на случай" лучезарным мюнхенским сербом, спрашивал у молчаливого, чуть приоткрытого, как памятник под простыней, шофера-индуса, возраст которого свободно плавал от шестнадцати до шестидесяти: