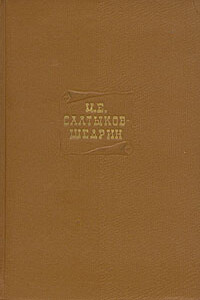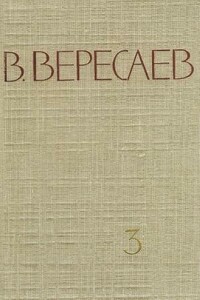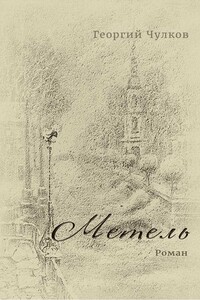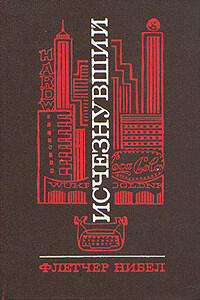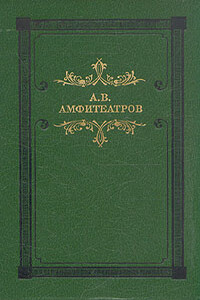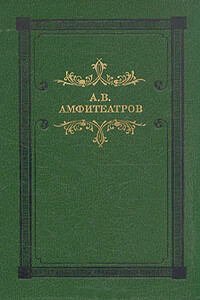Пишу эти строки подъ арестомъ, отчасти затѣмъ, чтобъ убить казематную скуку, отчасти потому, что меня невыносимо тяготятъ воспоминанія истекшаго дня, и есть потребность высказаться хоть самому себѣ, на бумагѣ…
Сегодня утромъ, пріятель мой Иванъ Юрьевичъ Волынскій стрѣлялся съ другимъ моимъ пріятелемъ, поручикомъ Раскатовымъ; я и баронъ Брунновъ, юнецъ изъ золотой молодежи, были секундантами. Доктора не было. Исторія разыгралась скверно: Раскатовъ уложилъ Волынскаго на мѣстѣ.
Когда Волынскій, третьяго дня, спросилъ меня:
— Владиміръ Павловичъ, не согласишься ли ты передать мой вызовъ Раскатову?
Я, не колеблясь, сказалъ «да». Я зналъ, что Волынскій дерется за женщину, свою любовницу, что онъ оскорбленъ и правъ, а Раскатовъ виноватъ: чего же еще? Да, наконецъ, могъ-ли я предположить, что дѣло дойдетъ до серьезнаго поединка? Столкновеніе между Волынскимъ и Раскатовымь было грубо и требовало пороха, но приключилось совершенно случайно, — мнѣ казалось, что имъ не за что ненавидѣть другъ друга и, въ самомъ дѣлѣ, жаждать кровомщенія. До ссоры Волынскій и Раскатовъ были въ очень хорошихъ товарищескихъ отношеніяхъ: если не друзья, то, во всякомъ случаѣ, пріятели. Я ждалъ обычной водевильной дуэльки, съ выстрѣлами на воздухъ, съ шампанскимъ по примиреніи, съ брудершафтами, и пр., и пр.
Участвуя въ водевилѣ, я и велъ себя по-водевильному. Докторъ, тоже нашъ общій пріятель, до того былъ увѣренъ въ примиреніи, что даже опоздалъ къ дуэли: не стоитъ молъ спѣшить, столкуются. — Для чего намъ докторъ? — сухо возразилъ Волынскій, когда я указалъ ему, что — по правиламъ — дуэль не можетъ состояться. — Мы будемъ драться насмерть.
Я принялъ это, какъ громкую фразу. Когда дуэлянты сошлись на барьерѣ, я, съ улыбкой, предложилъ имъ протянуть другъ другу руки: дескать, подурачились, — и будетъ!
Раскатовъ былъ не прочь «выразить сожалѣніе». Но Волынскій оборвалъ меня на первомъ словѣ.
— Я не желаю никакихъ объясненій! никакихъ сожалѣній… даже извиненій! — крикнулъ онъ, — оставь меня! Поди, скажи Раскатову, что я буду стрѣлять въ него, какъ въ мишень.
Я никогда не слыхалъ болѣе страшнаго голоса, никогда не видалъ болѣе блѣднаго, исковерканнаго гнѣвомъ, лица, никогда не смотрѣлъ въ такіе сверкающіе глаза.
Я извинилъ бы Раскатову смерть Волынскаго, — не могъ же онъ, въ самомъ дѣлѣ, позволить убить себя! — если-бы не видалъ, съ какимъ ужаснымъ — скажу — животнымъ хладнокровіемъ наводилъ онъ на противника дуло пистолета.
— Для меня молъ безразлично: убитъ тебя, или оставить въ живыхъ, но такъ какъ ты самъ на это напрашиваешься, — я тебя убью.
Раскатовъ выстрѣлилъ. Волынскій упалъ навзничь и судорожно повелъ всѣмъ тѣломъ. Мы съ Брунновымъ бросились къ нему — онъ былъ мертвъ: пуля пробила ему сердце.
Раскатовъ приблизился къ мертвецу, взглянулъ ему въ лицо, поморщился, отвернулся и быстро зашагалъ за кусты, къ своей коляскѣ. Дорогою, онъ вспомнилъ о пистолетѣ, оставшемся у него въ рукахъ, и возвратился къ намъ; отдалъ оружіе Бруннову, еще разъ покосился на Волынскаго, дружески кивнулъ мнѣ и затѣмъ удалился. Я посмотрѣлъ вслѣдъ Раскатову: онъ шелъ твердой поступью, съ обычной молодцеватой выправкой, настоящимъ гвардейскимъ львомъ.
Мы подняли трупъ. Лужа крови пятномъ чернѣла на желтой осенней травѣ. Тѣло Волынскаго тяжело повисло на моихъ рукахъ окровавленными плечами; оно быстро холодѣло, и мнѣ трудно было бороться съ отвращеніемъ къ этому остыванію. Съ помощью Бруннова, я всунулъ кое-какъ трупъ въ карету и самъ сѣлъ съ нимъ. Брунновъ сробѣлъ и, подъ предлогомъ, будто ему дурно, взобрался на козлы. Лошади, почуявъ кровь, храпѣли, косили глазами, были готовы понести. Кучеръ Вавила машинально удержалъ ихъ, но совсѣмъ потерялся и все твердилъ:
— Господи, помилуй! Этакій хорошій баринъ, и вдругъ столь скоропостижно скончались!
Я спустилъ оконныя шторы и остался въ синемъ полумракѣ, наединѣ съ убитымъ. Дорога была тряская; тѣло, качаясь, подпрыгивало на подушкахъ сидѣлья. У меня было скверно на душѣ: дуэль, дѣйствительно, свершилась такъ «скоропостижно», что я не могъ сообразить, за какую нить ухватиться мыслью, чтобы прослѣдить ходъ событій… Мнѣ было очень жаль Волынскаго, жалостливыя мысли не слагались въ умѣ: въ головѣ съ нахальнымъ упорствомъ вертѣлся опереточный мотивъ, съ утра заброшенный въ мои уши прохожимъ шарманщикомъ.
Мы привезли тѣло на квартиру покойнаго. Антонина Павловна Ридель, женщина, за которую стрѣлялся Волынскій, не допустила меня приготовить ее къ печальному извѣстію: глаза мои выдали ей истину. Брунновъ и Вавила внесли Волынскаго. Антонина Павловна подошла къ трупу, опустилась на колѣни и смотрѣла въ мертвое лицо молча, безъ слезъ, словно недоумѣніе: какъ-же могла совершиться такая напрасная смерть? — задавило въ ней печаль. Мы тоже не смѣли говорить, да и что можно было сказать? Общее молчаніе тяжелымъ камнемъ легло на каждаго изъ насъ, и я почти обрадовался приходу полиціи. Пока составляли актъ, Антонина Павловна удалилась къ окну и устремила пристальный взоръ на улицу; плечи ея вздрагивали; наконецъ, она заплакала… Пріѣхалъ плацъ-адьютанть, объявилъ намъ съ Брунновымъ арестъ и увезъ къ коменданту. Не знаю, что было — тамъ, на квартирѣ — дальше.