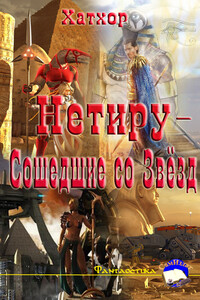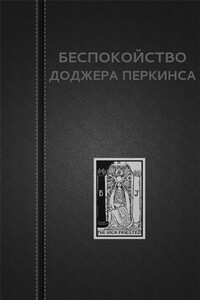Некоторые философы утверждают, будто главные повороты нашей жизни управляются неким космическим жребием, другие же полагают, что они возникают из незначительных на первый взгляд событий, разрастающихся впоследствии до огромных размеров, как катящийся снежный ком в альпийских горах. Я склонен согласиться со вторым из мнений, поскольку именно на такое положение вещей указывает мой личный опыт, о котором я расскажу ниже, стараясь соблюдать последовательность в хронологии и логике событий.
События начались ранним утром, когда жаркое солнце и удушливая пыль, ежедневно превращающие этот город в преддверие Гадеса, еще не вступили в свои права.
- Префект, тут жрецы у ворот дожидаются. Из ихнего сената.
Центурион Марций Германик, недавно переведенный из легиона XIII «Гемина», был парень бравый, но образованием не блистал. Для него, росшего и служившего на севере, языки и обычаи ближневосточных провинций были темнее Тевтобургского леса.
- Может, из синедриона?
- Так точно, префект. Из него.
Почему-то меня обычно отвлекали именно тогда, когда я собирался писать длинное и романтичное письмо жене в Кесарию. И в результате, поэтическая муза успевала упорхнуть. Итак, я, с сожалением, отложил стилос и переключился на дела службы.
- Что им надо?
Марций пожал плечами:
- Я не понял, префект. Привели какого-то парня, арестанта, наверное. Руками машут, лопочут по-своему, не разобрать, чего хотят.
- Где они?
- Стоят у ворот, заходить отказываются.
Ну да, вспомнил я, у них сегодня по календарю табу на все римское. Дикари. Ладно, придется выйти посмотреть.
Арестант был худощавый, среднего роста, неопределенного возраста, без особых примет, если не считать испачканного подсохшей кровью лица, разбитой губы и синяка под глазом. Судя по состоянию одежды, вернее лохмотьев, арестанта то ли пинали ногами, то ли валяли в придорожной пыли. Сопровождали его четверо бездельников из храмовой охраны и два жреца. Жрецы начали говорить, мешая арамейский с ломаной латынью, перебивая друг друга и одновременно жестикулируя.
Пришлось рявкнуть:
- Ну-ка заткнулись оба. Отвечать только на мои вопросы. Говорить будешь ты, - я указал пальцем на одного из жрецов, - остальные молчат.
Подействовало. Замолчали.
- Вопрос первый. Кто этот человек, которого вы привели?
- Он – преступник, прокуратор.
- Ясно. Что он сделал?
- Он злодей. Нарушил закон.
- Какой закон? Как нарушил?
Жрец начал эмоционально объяснять что-то на арамейском. Чтобы интерпретировать этот поток гортанных и шипящих фонем, надо быть профессиональным переводчиком, а я знал сирийский и арамейский в пределах армейского минимума.
- Не понимаю. Говори по латыни. Почему я должен разбираться с этим оборванцем?
Жрец перешел на латынь, на которой говорил не лучше, чем я – на сирийском.
- Он государственный преступник. Против Рима. Так сказал Каиафа, законоучитель.
- Государственный преступник? Интересно. Так что он сделал?
- Он сделал большое преступление.
Да, глубокий ответ. Сам Демосфен бы позавидовал. Стоило ради этого отрываться от письма Юстине… Я махнул рукой, повернулся к Марцию и с досадой сказал:
- Вот, бараны.
- Так точно, префект. Бараны.
- Короче, центурион, гони их в шею отсюда, - я развернулся, намереваясь пройтись по саду, раз уж от письма все равно оторвали.
- Стой, прокуратор! – крикнул тот же жрец.
- А ну, пошли вон, - раздался хорошо поставленный командный голос Марция.
- К этому злодею приложено письмо, - надрывался жрец, - от Каиафы. Для прокуратора.
Марций был непреклонен:
- Сказано – вон отсюда! Считаю до одного, потом - в рыло.
Мне очень не хотелось отменять приказ, но пришлось. Наличие официальной бумаги меняло дело.
- Центурион, возьми письмо и арестанта. Пусть его отмоют… арестанта, естественно, а не письмо…. и приведут ко мне, я буду в саду, у фонтана. Еще распорядись, чтоб принесли фалернского и воды… Проклятая жара.
Будучи отмытым и переодетым в чистую хламиду, арестант выглядел вполне прилично. Теперь было видно, что ему было лет 30, что у него умное, располагающее к себе лицо и редкие для туземцев серо-голубые глаза.
- Латынь знаешь? – спросил я
- Знаю, доминус.
- Уже хорошо. Итак, тебя зовут… - я сверился с письмом, - Иешуа, родом из Назарета, что в Галилее. Правильно?
- Да. Правильно.
- Тут сказано, что ты объявлял себя царем Иудеи. Правильно?
- Это меня оклеветали. Сам посуди, разве похож я на иудейского царя?
Я вздохнул и сделал глоток вина, разбавленного холодной водой. Клянусь Капитолийской волчицей, на царя он был не похож. Но Азия – такое место, где все не как у людей.
- Здесь я задаю вопросы, мальчик, а не ты. Как, по-твоему, я похож на иудея?
- Нет, доминус.
- Правильно. Я не иудей, а римский всадник. Откуда я могу знать, как должны выглядеть ваши цари? Может, им и полагается быть нищими оборванцами с подбитым глазом. Еще раз спрашиваю: ты объявлял себя царем Иудеи?
- Нет, доминус, - снова ответил Иешуа.
- А Каиафа пишет, что объявлял. Ты утверждаешь, что Каиафа лжет?
- Да, доминус. Он лжет.
Над этим стоило подумать. А думается мне лучше всего на ходу. Такая армейская привычка. Я поднялся и прошелся несколько раз взад – вперед по засыпанной разноцветной галькой дорожке. Этот туземный жрец, Каиафа, конечно интриган и пройдоха, каких мало. Из-под его пера вышло множество ложных доносов, в том числе мне – на моих собственных офицеров, а на меня самого – Тиберию Цезарю. Если Каиафа за что-то невзлюбил этого парнишку из Назарета, то вполне бы мог попытаться убрать его руками римлян. Очень удобно: ненавистные оккупанты-язычники распяли невинного юношу. Но он ведь не дурак, этот Каиафа, а донос дурацкий. Куда умнее было бы написать, что Иешуа такой-то при свидетелях в корчме назвал Тиберия Цезаря скотиной. Свидетели – не проблема, и вышла бы история, внушающая доверие. Тиберий действительно скотина, по всей империи его называют старым козлом и вонючей гиеной… Будь написано так, я легко отправил бы арестанта на крест за оскорбление величества. Но написано «объявлял себя царем Иудеи», а это доверия не внушает. И кстати, интересно, чем туземному жрецу так досадил этот Иешуа?