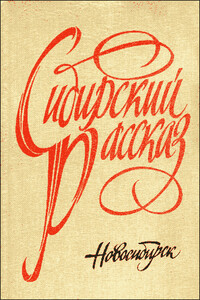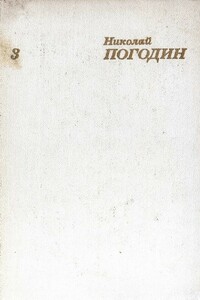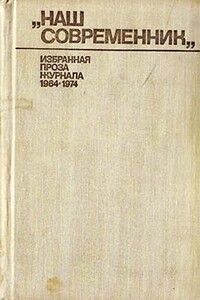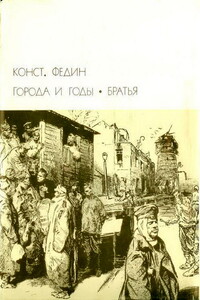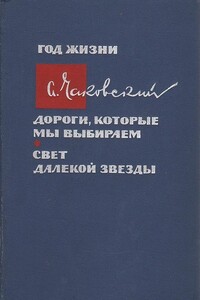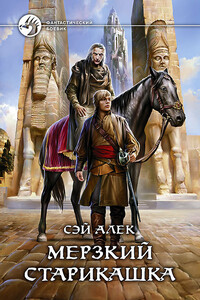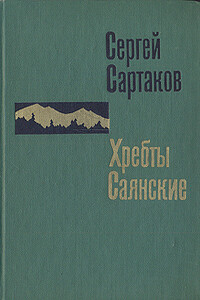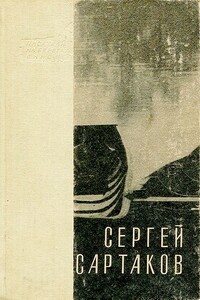Земля, на которой зеленеть бы траве и цвести цветам, была залита белой хлорной известью. Ее острый, режущий запах, смешиваясь с тяжелыми испарениями карболовой кислоты, дурманил, кружил голову, с непривычки вызывал тошноту.
Особенно непереносимо становилось, когда солнце в безоблачном небе взбиралось на свой перевал и оттуда палило, обжигало дома, поля и дороги прямыми беспощадными лучами. И хоть бы чуточку, какой-нибудь самый легкий порыв живительного ветерка, нет — все вокруг замерло, оцепенело, подчиняясь жестокой силе солнца. Жестокой потому, что подряд шло уже второе бездождное лето. Луга, пастбища, огороды начисто выгорели, а пашни постепенно превратились в горячую пыль. Из ее толщ редкие стебли озимой ржи, иссохшие и пожелтелые, печально щетинились мелкими и совершенно пустыми колосками.
Холерный барак, сколоченный на скорую руку из неоструганного теса, с маленькими слепыми оконцами, стоял на отшибе, в конце старинного волостного села Кроснянского. Временами из барака доносились мучительные стоны, крики. Крестьяне со страхом и злобой прислушивались к ним. Всяк боялся: а вдруг и его скрутит свирепыми корчами проклятая хворь, и он потом беспамятный окажется там, в этом страшном бараке, на пропитанной карболкой постели, с которой до него на рогожке уволокли уже не одного покойника. И каждый злобился на саму таинственную болезнь, разящую внезапно и старых и малых; на тех, кого она постигла — потому что это зараза, мор для других! — а еще больше на тех, кто в парусиновых застиранных халатах чего-то там мудрит над недужными, истязает их и пичкает отравами, и колет длинными железными иглами, «лечит», но вылечить не может, только быстрее отправляет на тот свет. Ужаснее всего представлялось, что к заболевшим и угодившим в холерный барак не пускали повидаться даже самых близких родственников. Умирали там без исповеди и соборования, покойников не отпевали в церкви, а укладывали в обрызганные этой же вонючей известью гробы, забивали гвоздями наглухо и увозили совсем на особое кладбище.
Только тогда, уже над раскрытой могилой, тоже забеленной известкой, дозволялось и постоять и поплакать, а попу — помахать кадилом и пропеть по обряду отходные молитвы. Да что же это такое, что за глумление над народом! Назвался лекарем, так лечи людей как людей, а постигнет кого вышней волей кончина — дай все сделать с ним, как положено по христианским обычаям. А то известью, известью да карболкой… Глухое раздражение, недовольство накапливалось среди отчаявшихся, измученных крестьян.
Засуха, случившаяся здесь второй год подряд, оголодила все живое. Домашняя скотина — кони, коровы, овцы едва переставляли ноги, выгрызая из земли, из перепревшего навоза остатки соломы, выбеленной ветрами и солнцем, скоблили зубами плетни, бревенчатые стены домов, — соломенные крыши давно уже были съедены. Сами землепашцы, в большинстве своем, позабыли о вкусе чистого ржаного хлеба, пекли его на три четверти с толченой березовой корой, добавляя еще и подзаборную лебеду. Опухшие, обессилевшие, они по вечерам собирались у волостного правления, надеясь на чудо. Вдруг выйдет на крыльцо старшина Петр Еремеевич Польшин и объявит: «Ну, мужики, пришла от государя нам большая помощь!» Но дни, мучительные, голодные, медленно текли один за другим, а помощи от государя все не было. Хлебная ссуда, выданная из казенных амбаров, расчислялась по нескольку золотников на душу. Что получали на месяц — съедали в три дня. В бесплатной столовой, открытой на пожертвования городских доброжелателей, из ста нуждающихся кормилось только три человека — на большее не хватало средств.
У сельских богатеев, понятно, еще держались запасцы зерна от позапрошлогоднего урожая. Каждую горстку его они теперь перетряхивали самодовольно на ладони, будто серебро, — цены на хлеб поднялись невообразимо. Пожалуйста — покупай! Но тому, кто не имел в своих закромах ни единого хлебного зернышка, негде было взять и денег на покупку. В опустошенные, обездоленные засухой и недородом деревни вступил владыкой и повелителем царь Голод. А вместе с голодом пожаловала холера.
Земский врач Гурарий Семеныч Гранов сидел за столом, уставленным флаконами и фаянсовыми банками, в «дежурке» — маленькой, тесной комнатке холерного барака, устало положив слегка седеющую голову на подставленные раскрытые ладони. Духота угнетала. И не было сил развязать тесемки на рукавах, сбросить халат, весь в коричневых йодных пятнах, пропахший лекарствами. Тягчайший выдался денек. Помимо того, что на рассвете скончался здесь вот, за тонкой дощатой переборкой, совсем молодой крестьянин Алексей Дилонов, слывший первым силачом во всей округе, еще и эта страшная драма…
Гурарий Семеныч потер лоб рукой. Да, в этом случае тоже ничем, ничем помочь было нельзя. Случай, когда медицина оказывается совершенно бессильной.
Ему представилось бледное, перепуганное лицо священника отца Гервасия, когда тот прибежал сюда, в барак, и прокричал: «Голубчик Гурарий Семеныч, скорее, скорее! Помогите, спасите…» И после, по дороге к избе Устиньи Синюхиной, торопливо рассказывал, как пришла к нему эта женщина, пала на колени с просьбой исповедать ее и на духу призналась, что хочет зарезать своих четверых ребят, не может видеть, как тихо тают они от голода. Пусть, мол, им сразу придет конец, а тогда уж она и сама… Отец Гервасий тяжело переводил дыхание, продолжая рассказ. Попенял он Устинье за богопротивные мысли такие, не принял исповеди, не дал отпущения грехов: «Не в уме сегодня ты!» А потом попадья собрала свеженьких пирожков с мясом да вяленой рыбки и еще чего-то. Вместе отнесли. Накормила Устинья ребят. Знаете, сколь отрадно было глядеть, как в момент уплели они все принесенное, подобрали со стола каждую крошечку. И вдруг — закричал мучительно один, за ним другой. Все четверо попадали на землю, начались конвульсии, холодный пот проливной… Отец Гервасий все убыстрял шаг, придерживая рукой серебряный крест, болтающийся на груди поверх подрясника. Его, видимо, обжигало сознание того, что он сделался как бы невольным убийцей этих ребят. Он все повторял на ходу: «Спасите их, голубчик Гурарий Семеныч, спасите!» Но оба и тогда знали: поздно, спасти нельзя. Вбежали они в избу Синюхиной, когда Устинья, уже обмякшая, с потухшими глазами, стояла у дверной притолоки и глухо выла…