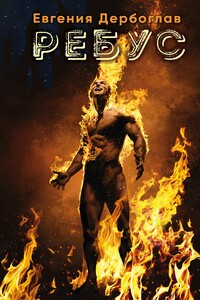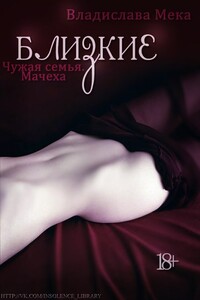Тупая боль переходит в острую — быстро, как будто включили свет. Скулы сводит от мерзкого привкуса на языке и предчувствия рвоты; желудок скручивается в ком, а затем — меня рвёт. Ощущение такое, будто наружу выходят лезвия вместе с кусками внутренних органов, но это, конечно, просто кажется: будь это правдой, я бы так долго не протянул.
Руки рефлекторно вцепляются в металлическую раковину. Глаза машинально отмечают то, насколько облезла на ней белая краска. Почему именно эта деталь? Не знаю, но если не сосредоточиться на чём-то таком — будет ещё хуже.
Мерзостный поток не бывает длинным, но чувства — хуже некуда. Наощупь найдя в кармане салфетки, я вытираю лицо и поднимаю глаза выше, к грязному, засиженному мухами зеркалу.
Да уж. Красавец. Всё лицо перекошено, забрызгано всяческой дрянью, искажено от боли, которая и не прекратилась вовсе, а просто отхлынула, снова став тупой и размытой — как мелодия на заднем плане. Так и живу.
Впрочем, даже без гримасы это лицо никак не тянет на красивое. Оспины на коже — внешние отражения внутренних процессов, отметины Скверны — превратили моё лицо в кожаную маску, вроде тех, что продаются в магазинах хэллоуинской атрибутики. Ну, знаете — резиновые рожи с лицами гоблинов, мумий, зомби, а иногда и политиков или звёзд.
Вот и моё лицо такое же. Бугристая кожа, вмятины и шишки тут и там, и, конечно же, неестественный цвет лица. Чёрные волосы, обрамляющие это лицо, выглядят париком, нацепленным поверх маски. Тёмные очки, хотя бы немного скрывающие это уродство, сейчас лежат сбоку, на раковине — я как раз успел снять их, когда приступ скрутил меня.
Смешно. Когда-то меня даже называли красивым — давно, в детстве.
…ладно. В детстве много чего было — и хорошего и плохого. И что теперь вспоминать?
Скривившись, я отворачиваюсь от зеркала. Не разбивать же его кулаком, как в глупых фильмах. У меня всё проще. Я не то, чтобы смирился, я скорее принял последствия своего неосознанного выбора и… ни капли о нём не жалею. Пусть и совершил по незнанию. Ещё раз вытерев лицо, я надеваю очки и капюшон.
Пора возвращаться в автобус. Водитель ждать не будет, пока я тут вспомню всю свою жизнь от роддома и до этого момента.
Хлопнув дверью туалета, я выскочил из заправки на улице и начал искать взглядом видавшее года транспортное средство.
Ага, вот и он. Низ белый, верх тёмно-зелёный. На вид — ещё ровесник моих родителей, хотя внутри двигатель должны были обновить… надеюсь. Мутноватые окна и тошнотворный запах выхлопов — от него никуда не денешься.
Успел я вовремя. Автобус тронулся как раз в тот момент, когда я пробирался между рядами к своему месту, обозначенному полупустой бутылкой из-под газировки — чтобы не заняли, пока отлучаюсь в туалет. Водитель дёрнул педаль газа, и я, не успев схватиться покрепче за поручень, повалился прямо на толстую тётку, чьи раскидистые бока свисали в проходе, словно подушки безопасности.
— Эй! — визгливо возмутилась она. — Смотри, куда падаешь!
Очень смешно, ха-ха. Вот именно когда падаешь — смотреть как раз удобнее всего.
— Простите! — буркнул я. — Не успел…
— Что ты не успел? — тётка всплеснула рукой, пышно и величаво, как будто проплыл на гребне океанской волны величественный кашалот, — Шнурки завязать ты себе не успел? Нужно глядеть, когда идёшь, а не можешь устоять — держись!
Ох. Кажется, это надолго. А до столицы ещё три часа ехать, не меньше… Пытаясь не отсвечивать и издавать как можно меньше шума, я взялся за поручни покрепче и двинулся дальше к своему месту. Меня всё ещё слегка шатало после приступа, так что водитель, в принципе, был не так уж и виноват.
— …а это не значит, что нужно идти вслепую, да ещё и в этих чёрных очках! — продолжала возмущаться толстая тётка. Я затылком чуял её гневные взгляды, а скрипучий и неприятный голос навевал печальные воспоминания — воспоминания о…
…не будем о грустном. Дойдя до сидения, я стащил со спины полупустой рюкзак и, протиснувшись на сидение у окна, кинул его себе под ноги. Отлично, едем.
В принципе, я не очень много ездил в своей жизни, а когда ездил — то всё больше по врачам. Впрочем, к тому моменту, как симптомы этой заразы стали очевидны, что-то делать уже было поздно. Ещё года за два до того — и… И мне бы продлили жизнь лет, может, до тридцати или около того. Но всё случилось так, как случилось.
Стал бы я менять что-то, появись у меня шанс вернуться в прошлое? Наверное, стал бы — жить-то хочется. Жалею ли я о чём-то? Нет. Жалеть себя — последнее дело, особенно если ничего не можешь изменить. Жизнь идёт так, как идёт, и вот я здесь — в автобусе до столицы, еду в свою последнюю поездку под аккомпанемент визгов и криков толстой скандальной тётки.
— И вообще! — кажется, ей было плевать, что кругом люди, что сейчас половина седьмого утра и кто-то пытается спать, что я давно уже ушёл от неё. — Если у кого-то такая клаустрофобия — пусть едет поездом. Там и места побольше, и тамбур есть, где можно постоять, и вообще!
— Ой, что ты такое говоришь, Даша, — увещевала свою подругу её более худая спутница. — Ты новости читаешь? В поездах постоянно что-то случается. То одно, то другое… знаешь, сколько происшествий случилось в поездах только за последние полгода?